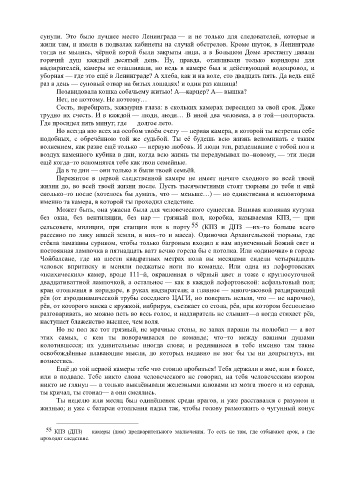Page 92 - Архипелаг ГУЛаг
P. 92
сунули. Это было лучшее место Ленинграда — и не только для следователей, которые и
жили там, и имели в подвалах кабинеты на случай обстрелов. Кроме шуток, в Ленинграде
тогда не мылись, чёрной корой были закрыты лица, а в Большом Доме арестанту давали
горячий душ каждый десятый день. Ну, правда, отапливали только коридоры для
надзирателей, камеры не отапливали, но ведь в камере был и действующий водопровод, и
уборная — где это ещё в Ленинграде? А хлеба, как и на воле, сто двадцать пять. Да ведь ещё
раз в день — суповый отвар на битых лошадях! и один раз кашица!
Позавидовала кошка собачьему житью! А—карцер? А— вышка?
Нет, не поэтому. Не поэтому…
Сесть, перебирать, зажмурив глаза: в скольких камерах пересидел за свой срок. Даже
трудно их счесть. И в каждой — люди, люди… В иной два человека, а в той—полтораста.
Где просидел пять минут; где — долгое лето.
Но всегда изо всех на особом твоём счету — первая камера, в которой ты встретил себе
подобных, с обречённою той же судьбой. Ты её будешь всю жизнь вспоминать с таким
волнением, как разве ещё только — первую любовь. И люди эти, разделившие с тобой пол и
воздух каменного кубика в дни, когда всю жизнь ты передумывал по–новому, — эти люди
ещё когда–то вспомнятся тебе как твои семейные.
Да в те дни — они только и были твоей семьёй.
Пережитое в первой следственной камере не имеет ничего сходного во всей твоей
жизни до, во всей твоей жизни после. Пусть тысячелетиями стоят тюрьмы до тебя и ещё
сколько–то после (хотелось бы думать, что — меньше…) — но единственна и неповторима
именно та камера, в которой ты проходил следствие.
Может быть, она ужасна была для человеческого существа. Вшивая клопяная кутузка
без окна, без вентиляции, без нар — грязный пол, коробка, называемая КПЗ, — при
сельсовете, милиции, при станции или в порту 55 (КПЗ и ДПЗ —их–то больше всего
рассеяно по лику нашей земли, в них–то и масса). Одиночка Архангельской тюрьмы, где
стёкла замазаны суриком, чтобы только багровым входил к вам изувеченный Божий свет и
постоянная лампочка в пятнадцать ватт вечно горела бы с потолка. Или «одиночка» в городе
Чойбалсане, где на шести квадратных метрах пола вы месяцами сидели четырнадцать
человек впритиску и меняли поджатые ноги по команде. Или одна из лефортовских
«психических» камер, вроде 111–й, окрашенная в чёрный цвет и тоже с круглосуточной
двадцативаттной лампочкой, а остальное — как в каждой лефортовской: асфальтовый пол;
кран отопления в коридоре, в руках надзирателя; а главное — многочасовой раздирающий
рёв (от аэродинамической трубы соседнего ЦАГИ, но поверить нельзя, что — не нарочно),
рёв, от которого миска с кружкой, вибрируя, съезжает со стола, рёв, при котором бесполезно
разговаривать, но можно петь во весь голос, и надзиратель не слышит—а когда стихает рёв,
наступает блаженство высшее, чем воля.
Но не пол же тот грязный, не мрачные стены, не запах параши ты полюбил — а вот
этих самых, с кем ты поворачивался по команде; что–то между вашими душами
колотившееся; их удивительные иногда слова; и родившиеся в тебе именно там такие
освобождённые плавающие мысли, до которых недавно не мог бы ты ни допрыгнуть, ни
вознестись.
Ещё до той первой камеры тебе что стоило пробиться! Тебя держали в яме, или в боксе,
или в подвале. Тебе никто слова человеческого не говорил, на тебя человеческим взором
никто не глянул — а только выклёвывали железными клювами из мозга твоего и из сердца,
ты кричал, ты стонал— а они смеялись.
Ты неделю или месяц был одинёшенек среди врагов, и уже расставался с разумом и
жизнью; и уже с батареи отопления падал так, чтобы голову размозжить о чугунный конус
55 КПЗ (ДПЗ) — камеры (дом) предварительного заключения. То есть не там, где отбывают срок, а где
проходят следствие.