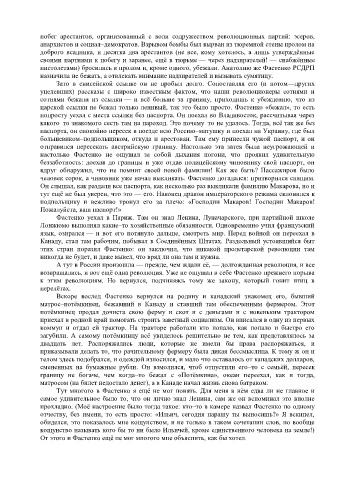Page 98 - Архипелаг ГУЛаг
P. 98
побег арестантов, организованный с воли содружеством революционных партий: эсеров,
анархистов и социал–демократов. Взрывом бомбы был вырван из тюремной стены пролом на
доброго всадника, и десятка два арестантов (не все, кому хотелось, а лишь утверждённые
своими партиями к побегу и заранее, ещё в тюрьме — через надзирателей! — снабжённые
пистолетами) бросились в пролом и, кроме одного, убежали. Анатолию же Фастенко РСДРП
назначила не бежать, а отвлекать внимание надзирателей и вызывать сумятицу.
Зато в енисейской ссылке он не пробыл долго. Сопоставляя его (и потом—других
уцелевших) рассказы с широко известным фактом, что наши революционеры сотнями и
сотнями бежали из ссылки — и всё больше за границу, приходишь к убеждению, что из
царской ссылки не бежал только ленивый, так это было просто. Фастенко «бежал», то есть
попросту уехал с места ссылки без паспорта. Он поехал во Владивосток, рассчитывая через
какого–то знакомого сесть там на пароход. Это почему–то не удалось. Тогда, всё так же без
паспорта, он спокойно пересек в поезде всю Россию–матушку и поехал на Украину, где был
большевиком–подпольщиком, откуда и арестован. Там ему принесли чужой паспорт, и он
отправился пересекать австрийскую границу. Настолько эта затея была неугрожающей и
настолько Фастенко не ощущал за собой дыхания погони, что проявил удивительную
беззаботность: доехав до границы и уже отдав полицейскому чиновнику свой паспорт, он
вдруг обнаружил, что не помнит своей новой фамилии! Как же быть? Пассажиров было
человек сорок, а чиновник уже начал выкликать. Фастенко догадался: притворился спящим.
Он слышал, как раздали все паспорта, как несколько раз выкликали фамилию Макарова, но и
тут ещё не был уверен, что это — его. Наконец дракон императорского режима склонился к
подпольщику и вежливо тронул его за плечо: «Господин Макаров! Господин Макаров!
Пожалуйста, ваш паспорт!»
Фастенко уехал в Париж. Там он знал Ленина, Луначарского, при партийной школе
Лонжюмо выполнял какие–то хозяйственные обязанности. Одновременно учил французский
язык, озирался — и вот его потянуло дальше, смотреть мир. Перед войной он переехал в
Канаду, стал там рабочим, побывал в Соединённых Штатах. Раздольный устоявшийся быт
этих стран поразил Фастенко: он заключил, что никакой пролетарской революции там
никогда не будет, и даже вывел, что вряд ли она там и нужна.
А тут в России произошла — прежде, чем ждали её, — долгожданная революция, и все
возвращались, и вот ещё одна революция. Уже не ощущал в себе Фастенко прежнего порыва
к этим революциям. Но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц в
перелётах.
Вскоре вослед Фастенко вернулся на родину и канадский знакомец его, бывший
матрос–потёмкинец, бежавший в Канаду и ставший там обеспеченным фермером. Этот
потёмкинец продал дочиста свою ферму и скот и с деньгами и с новеньким трактором
приехал в родной край помогать строить заветный социализм. Он вписался в одну из первых
коммун и отдал ей трактор. На тракторе работали кто попало, как попало и быстро его
загубили. А самому потёмкинцу всё увиделось решительно не тем, как представлялось за
двадцать лет. Распоряжались люди, которые не имели бы права распоряжаться, и
приказывали делать то, что рачительному фермеру была дикая бессмыслица. К тому ж он и
телом здесь подобрался, и одеждой износился, и мало что оставалось от канадских долларов,
смененных на бумажные рубли. Он взмолился, чтоб отпустили его–то с семьёй, пересек
границу не богаче, чем когда–то бежал с «Потёмкина», океан переехал, как и тогда,
матросом (на билет недостало денег), а в Канаде начал жизнь снова батраком.
Тут многого в Фастенко я ещё не мог понять. Для меня в нём едва ли не главное и
самое удивительное было то, что он лично знал Ленина, сам же он вспоминал это вполне
прохладно. (Моё настроение было тогда такое: кто–то в камере назвал Фастенко по одному
отчеству, без имени, то есть просто: «Ильич, сегодня парашу ты выносишь?» Я вскипел,
обиделся, это показалось мне кощунством, и не только в таком сочетании слов, но вообще
кощунство называть кого бы то ни было Ильичей, кроме единственного человека на земле!)
От этого и Фастенко ещё не мог многого мне объяснить, как бы хотел.