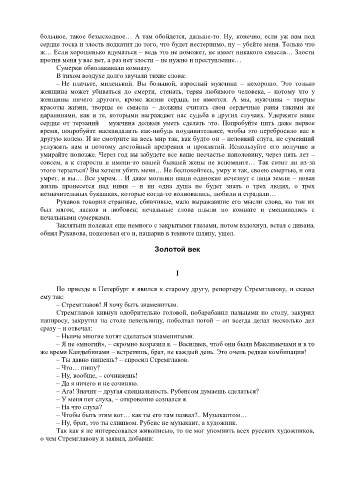Page 129 - Рассказы
P. 129
большое, такое безысходное… А там обойдется, дальше-то. Ну, конечно, если уж вам под
сердце тоска и злость подкатит до того, что будет нестерпимо, ну – убейте меня. Только что
ж… Если хорошенько вдуматься – ведь это не поможет, не имеет никакого смысла… Злости
против меня у вас нет, а раз нет злости – не нужно и преступление…
Сумерки обволакивали комнату.
В тихом воздухе долго звучали тихие слова:
– Не плачьте, миленький. Вы большой, взрослый мужчина – нехорошо. Это только
женщина может убиваться до смерти, стенать, теряя любимого человека, – потому что у
женщины ничего другого, кроме жизни сердца, не имеется. А мы, мужчины – творцы
красоты жизни, творцы ее смысла – должны считать свои сердечные раны такими же
царапинами, как и те, которыми награждает нас судьба в других случаях. Удержите ваше
сердце от терзаний – мужчина должен уметь сделать это. Попробуйте пить даже первое
время, попробуйте наскандалить как-нибудь поудивительнее, чтобы это перебросило вас в
другую колею. И не смотрите на весь мир так, как будто он – неловкий слуга, не сумевший
услужить вам и поэтому достойный презрения и проклятий. Используйте его получше и
умирайте попозже. Через год вы забудете все ваше несчастье наполовину, через пять лет –
совсем, а к старости и имени-то вашей бывшей жены не вспомните… Так стоит ли из-за
этого терзаться? Вы хотели убить меня… Не беспокойтесь, умру и так, своею смертью, и она
умрет, и вы… Все умрем… И даже могилки наши одинокие исчезнут с лица земли – новая
жизнь пронесется над ними – и ни одна душа не будет знать о трех людях, о трех
незначительных букашках, которые когда-то волновались, любили и страдали…
Рукавов говорил странные, сбивчивые, мало выражавшие его мысли слова, но тон их
был мягок, ласков и любовен; печальные слова плыли по комнате и смешивались с
печальными сумерками.
Заклятьин полежал еще немного с закрытыми глазами, потом вздохнул, встал с дивана,
обнял Рукавова, поцеловал его и, нашарив в темноте шляпу, ушел.
Золотой век
I
По приезде в Петербург я явился к старому другу, репортеру Стремглавову, и сказал
ему так:
– Стремглавов! Я хочу быть знаменитым.
Стремглавов кивнул одобрительно головой, побарабанил пальцами по столу, закурил
папиросу, закрутил на столе пепельницу, поболтал ногой – он всегда делал несколько дел
сразу – и отвечал:
– Нынче многие хотят сделаться знаменитыми.
– Я не «многий», – скромно возразил я. – Василиев, чтоб они были Максимычами и в то
же время Кандыбинами – встретишь, брат, не каждый день. Это очень редкая комбинация!
– Ты давно пишешь? – спросил Стремглавов.
– Что… пишу?
– Ну, вообще, – сочиняешь!
– Да я ничего и не сочиняю.
– Ага! Значит – другая специальность. Рубенсом думаешь сделаться?
– У меня нет слуха, – откровенно сознался я.
– На что слуха?
– Чтобы быть этим вот… как ты его там назвал?.. Музыкантом…
– Ну, брат, это ты слишком. Рубенс не музыкант, а художник.
Так как я не интересовался живописью, то не мог упомнить всех русских художников,
о чем Стремглавову и заявил, добавив: