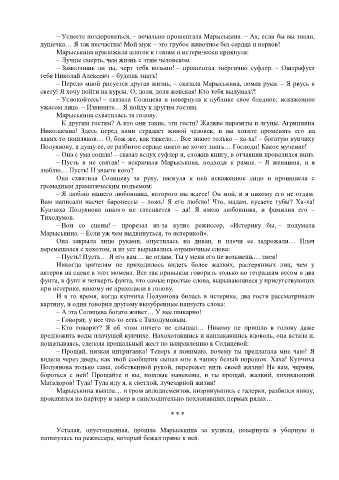Page 134 - Рассказы
P. 134
– Успеете поздороваться, – печально прошептала Марыськина. – Ах, если бы вы знали,
душечка… Я так несчастна! Мой муж – это грубое животное без сердца и нервов!
Марыськина приложила платок к глазам и истерически крикнула:
– Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком.
– Замолчишь ли ты, черт тебя возьми! – прошептал энергично суфлер. – Оштрафует
тебя Николай Алексеич – будешь знать!
– Передо мной рисуется другая жизнь, – сказала Марыськина, ломая руки. – Я рвусь к
свету! Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!
– Успокойтесь! – сказала Солнцева и повернула к публике свое бледное, искаженное
ужасом лицо. – Извините… Я пойду к другим гостям.
Марыськина схватилась за голову.
– К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лгуны. Агриппина
Николаевна! Здесь перед вами страдает живой человек, и вы хотите променять его на
каких-то пошляков… О, бож-же, как тяжело… Все знают только – ха-ха! – богатую купчиху
Полуянову, а душу ее, ее разбитое сердце никто не хочет знать… Господи! Какое мучение!
– Она с ума сошла! – сказал вслух суфлер и, сложив книгу, в отчаянии провалился вниз.
– Пусть я не святая! – вскричала Марыськина, подходя к рампе. – Я женщина, и я
люблю… Пусть! И знаете кого?
Она схватила Солнцеву за руку, нагнула к ней искаженное лицо и прошипела с
громадным драматическим подъемом:
– Я люблю вашего любовника, которого вы ждете! Он мой, и я никому его не отдам.
Вам написали насчет баронессы – ложь! Я его люблю! Что, мадам, кусаете губы? Ха-ха!
Купчиха Полуянова никого не стесняется – да! Я имею любовника, и фамилия его –
Тиходумов.
– Вон со сцены! – прорезал из-за кулис режиссер, «Истерику бы, – подумала
Марыськина. – Если уж чем выдвинуться, то истерикой».
Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали… Плач
перемешался с хохотом, и из уст вырывались отрывочные слова:
– Пусть! Пусть… Я его вам… не отдам. Ты у меня его не возьмешь… змея!
Никогда зрителям не приходилось видеть более жалких, растерянных лиц, чем у
актеров на сцене в этот момент. Все так привыкли говорить только по тетрадкам весом в два
фунта, в фунт и четверть фунта, что самые простые слова, вырывающиеся у присутствующих
при истерике, никому не приходили в голову.
И в то время, когда купчиха Полуянова билась в истерике, два гостя рассматривали
картину, и один говорил другому вызубренные наизусть слова:
– А эта Солнцева богато живет… У нее шикарно!
– Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым.
– Кто говорит? Я об этом ничего не слышал… Никому не пришло в голову даже
предложить воды плачущей купчихе. Нахохотавшись и наплакавшись вдоволь, она встала и,
пошатываясь, сделала прощальный жест по направлению к Солнцевой:
– Прощай, низкая интриганка! Теперь я понимаю, почему ты предлагала мне чаю! Я
видела через дверь, как твой сообщник сыпал мне в чашку белый порошок. Хаха! Купчиха
Полуянова только сама, собственной рукой, перережет нить своей жизни! Не вам, червям,
бороться с ней! Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий
Матадоров! Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!
Марыськина вышла… и гром аплодисментов, низринувшись с галерки, разбился внизу,
прокатился по партеру и замер в снисходительно похлопавших первых рядах…
* * *
Усталая, опустошенная, прошла Марыськина за кулисы, повернула в уборную и
наткнулась на режиссера, который бежал прямо к ней.