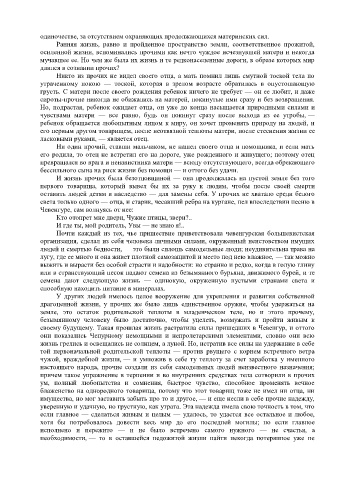Page 147 - Чевенгур
P. 147
одиночестве, за отсутствием охраняющих продолжающихся материнских сил.
Ранняя жизнь, равно и пройденное пространство земли, соответственное прожитой,
осиленной жизни, вспоминались прочими как нечто чуждое исчезнувшей матери и некогда
мучавшее ее. Но чем же была их жизнь и те редконаселенные дороги, в образе которых мир
длился в сознании прочих?
Никто из прочих не видел своего отца, а мать помнил лишь смутной тоской тела по
утраченному покою — тоской, которая в зрелом возрасте обратилась в опустошающую
грусть. С матери после своего рождения ребенок ничего не требует — он ее любит, и даже
сироты-прочие никогда не обижались на матерей, покинутые ими сразу и без возвращения.
Но, подрастая, ребенок ожидает отца, он уже до конца насыщается природными силами и
чувствами матери — все равно, будь он покинут сразу после выхода из ее утробы, —
ребенок обращается любопытным лицом к миру, он хочет променять природу на людей, и
его первым другом товарищем, после неотвязной теплоты матери, после стеснения жизни ее
ласковыми руками, — является отец.
Ни один прочий, ставши мальчиком, не нашел своего отца и помощника, и если мать
его родила, то отец не встретил его на дороге, уже рожденного и живущего; поэтому отец
превращался во врага и ненавистника матери — всюду отсутствующего, всегда обрекающего
бессильного сына на риск жизни без помощи — и оттого без удачи.
И жизнь прочих была безотцовщиной — она продолжалась на пустой земле без того
первого товарища, который вывел бы их за руку к людям, чтобы после своей смерти
оставить людей детям в наследство — для замены себя. У прочих не хватало среди белого
света только одного — отца, и старик, чесавший ребра на кургане, пел впоследствии песню в
Чевенгуре, сам волнуясь от нее:
Кто отопрет мне двери, Чужие птицы, звери?..
И где ты, мой родитель, Увы — не знаю я!..
Почти каждый из тех, чье пришествие приветствовала чевенгурская большевистская
организация, сделал из себя человека личными силами, окруженный неистовством имущих
людей и смертью бедности, — это были сплошь самодельные люди; неудивительна трава на
лугу, где ее много и она живет плотной самозащитой и место под нею влажное, — так можно
выжить и вырасти без особой страсти и надобности: но странно и редко, когда в голую глину
или в странствующий песок падают семена из безымянного бурьяна, движимого бурей, и те
семена дают следующую жизнь — одинокую, окруженную пустыми странами света и
способную находить питание в минералах.
У других людей имелось целое вооружение для укрепления и развития собственной
драгоценной жизни, у прочих же было лишь единственное оружие, чтобы удержаться на
земле, это остаток родительской теплоты в младенческом теле, но и этого прочему,
безымянному человеку было достаточно, чтобы уцелеть, возмужать и пройти живым к
своему будущему. Такая прошлая жизнь растратила силы пришедших в Чевенгур, и оттого
они показались Чепурному немощными и непролетарскими элементами, словно они всю
жизнь грелись и освещались не солнцем, а луной. Но, истратив все силы на удержание в себе
той первоначальной родительской теплоты — против рвущего с корнем встречного ветра
чужой, враждебной жизни, — и умножив в себе ту теплоту за счет заработка у именного
настоящего народа, прочие создали из себя самодельных людей неизвестного назначения;
причем такое упражнение в терпении и во внутренних средствах тела сотворили в прочих
ум, полный любопытства и сомнения, быстрое чувство, способное променять вечное
блаженство на однородного товарища, потому что этот товарищ тоже не имел ни отца, ни
имущества, но мог заставить забыть про то и другое, — и еще несли в себе прочие надежду,
уверенную и удачную, но грустную, как утрата. Эта надежда имела свою точность в том, что
если главное — сделаться живым и целым — удалось, то удастся все остальное и любое,
хотя бы потребовалось довести весь мир до его последней могилы; но если главное
исполнено и пережито — и не было встречено самого нужного — не счастья, а
необходимости, — то в оставшейся недожитой жизни найти некогда потерянное уже не