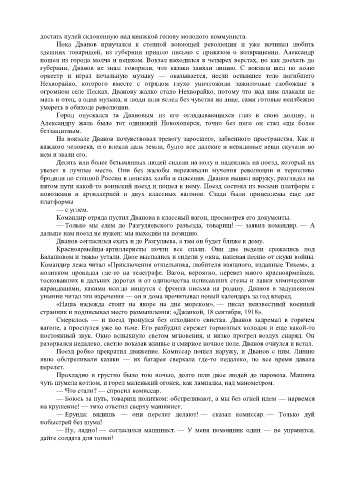Page 32 - Чевенгур
P. 32
достать пулей склоненную над книжкой голову молодого коммуниста.
Пока Дванов приучался к степной воюющей революции и уже начинал любить
здешних товарищей, из губернии пришло письмо с приказом о возвращении. Александр
пошел из города молча и пешком. Вокзал находился в четырех верстах, но как доехать до
губернии, Дванов не знал: говорили, что казаки заняли линию. С вокзала шел по полю
оркестр и играл печальную музыку — оказывается, несли остывшее тело погибшего
Нехворайко, которого вместе с отрядом глухо уничтожили зажиточные слобожане в
огромном селе Песках. Дванову жалко стало Нехворайко, потому что над ним плакали не
мать и отец, а одна музыка, и люди шли вслед без чувства на лице, сами готовые неизбежно
умереть в обиходе революции.
Город опускался за Двановым из его оглядывающихся глаз в свою долину, и
Александру жаль было тот одинокий Новохоперск, точно без него он стал еще более
беззащитным.
На вокзале Дванов почувствовал тревогу заросшего, забвенного пространства. Как и
каждого человека, его влекла даль земли, будто все далекие и невидимые вещи скучали по
нем и звали его.
Десять или более безымянных людей сидели на полу и надеялись на поезд, который их
увезет в лучшее место. Они без жалобы переживали мучения революции и терпеливо
бродили по степной России в поисках хлеба и спасения. Дванов вышел наружу, разглядел на
пятом пути какой-то воинский поезд и пошел к нему. Поезд состоял из восьми платформ с
повозками и артиллерией и двух классных вагонов. Сзади были прицеплены еще две
платформы
— с углем.
Командир отряда пустил Дванова в классный вагон, просмотрев его документы.
— Только мы едем до Разгуляевского разъезда, товарищ! — заявил командир. — А
дальше нам поезд не нужен: мы выходим на позицию.
Дванов согласился ехать и до Разгуляева, а там он будет ближе к дому.
Красноармейцы-артиллеристы почти все спали. Они две недели сражались под
Балашовом и тяжко устали. Двое выспались и сидели у окна, напевая песню от скуки войны.
Командир лежа читал «Приключения отшельника, любителя изящного, изданные Тиком», а
политком пропадал где-то на телеграфе. Вагон, вероятно, перевез много красноармейцев,
тосковавших в дальних дорогах и от одиночества исписавших стены и лавки химическими
карандашами, какими всегда пишутся с фронта письма на родину. Дванов в задушевном
унынии читал эти изречения — он и дома прочитывал новый календарь за год вперед.
«Наша надежда стоит на якоре на дне морском», — писал неизвестный военный
странник и подписывал место размышления: «Джанкой, 18 сентября, 1918».
Смерклось — и поезд тронулся без отходного свистка. Дванов задремал в горячем
вагоне, а проснулся уже во тьме. Его разбудил скрежет тормозных колодок и еще какой-то
постоянный звук. Окно вспыхнуло светом мгновения, и низко прогрел воздух снаряд. Он
разорвался недалеко, светло показав жнивье и смирное ночное поле. Дванов очнулся и встал.
Поезд робко прекратил движение. Комиссар пошел наружу, и Дванов с ним. Линию
явно обстреливали казаки — их батарея сверкала где-то недалеко, но все время давала
перелет.
Прохладно и грустно было тою ночью, долго шли двое людей до паровоза. Машина
чуть шумела котлом, и горел маленький огонек, как лампадка, над манометром.
— Что стали? — спросил комиссар.
— Боюсь за путь, товарищ политком: обстреливают, а мы без огней идем — нарвемся
на крушение! — тихо ответил сверху машинист.
— Ерунда: видишь — они перелет делают! — сказал комиссар. — Только дуй
побыстрей без шума!
— Ну, ладно! — согласился машинист. — У меня помощник один — не управится,
дайте солдата для топки!