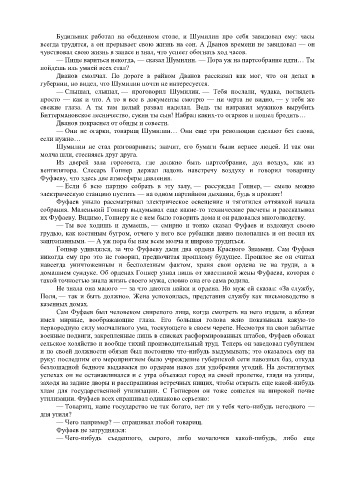Page 88 - Чевенгур
P. 88
Будильник работал на обеденном столе, и Шумилин про себя завидовал ему: часы
всегда трудятся, а он прерывает свою жизнь на сон. А Дванов времени не завидовал — он
чувствовал свою жизнь в запасе и знал, что успеет обогнать ход часов.
— Пище вариться некогда, — сказал Шумилин. — Пора уж на партсобрание идти… Ты
пойдешь иль умней всех стал?
Дванов смолчал. По дороге в райком Дванов рассказал как мог, что он делал в
губернии, но видел, что Шумилин почти не интересуется.
— Слышал, слышал, — проговорил Шумилин. — Тебя послали, чудака, поглядеть
просто — как и что. А то я все в документы смотрю — ни черта не видно, — у тебя же
свежие глаза. А ты там целый развал наделал. Ведь ты натравил мужиков вырубить
Биттермановское лесничество, сукин ты сын! Набрал каких-то огарков и пошел бродить…
Дванов покраснел от обиды и совести.
— Они не огарки, товарищ Шумилин… Они еще три революции сделают без слова,
если нужно…
Шумилин не стал разговаривать; значит, его бумаги были вернее людей. И так они
молча шли, стесняясь друг друга.
Из дверей зала горсовета, где должно быть партсобрание, дул воздух, как из
вентилятора. Слесарь Гопнер держал ладонь навстречу воздуху и говорил товарищу
Фуфаеву, что здесь две атмосферы давления.
— Если б всю партию собрать в эту залу, — рассуждал Гопнер, — смело можно
электрическую станцию пустить — на одном партийном дыхании, будь я проклят!
Фуфаев уныло рассматривал электрическое освещение и тяготился оттяжкой начала
собрания. Маленький Гопнер выдумывал еще какие-то технические расчеты и рассказывал
их Фуфаеву. Видимо, Гопнеру не с кем было говорить дома и он радовался многолюдству.
— Ты все ходишь и думаешь, — смирно и тонко сказал Фуфаев и вздохнул своею
грудью, как костяным бугром, отчего у него все рубашки давно полопались и он носил их
заштопанными. — А уж пора бы нам всем молча и широко трудиться.
Гопнер удивлялся, за что Фуфаеву дали два ордена Красного Знамени. Сам Фуфаев
никогда ему про это не говорил, предпочитая прошлому будущее. Прошлое же он считал
навсегда уничтоженным и бесполезным фактом, храня свои ордена не на груди, а в
домашнем сундуке. Об орденах Гопнер узнал лишь от хвастливой жены Фуфаева, которая с
такой точностью знала жизнь своего мужа, словно она его сама родила.
Не знала она малого — за что даются пайки и ордена. Но муж ей сказал: «За службу,
Поля, — так и быть должно». Жена успокоилась, представив службу как письмоводство в
казенных домах.
Сам Фуфаев был человеком свирепого лица, когда смотреть на него издали, а вблизи
имел мирные, воображающие глаза. Его большая голова ясно показывала какую-то
первородную силу молчаливого ума, тоскующего в своем черепе. Несмотря на свои забытые
военные подвиги, закрепленные лишь в списках расформированных штабов, Фуфаев обожал
сельское хозяйство и вообще тихий производительный труд. Теперь он заведовал губутилем
и по своей должности обязан был постоянно что-нибудь выдумывать; это оказалось ему на
руку: последним его мероприятием было учреждение губернской сети навозных баз, откуда
безлошадной бедноте выдавался по ордерам навоз для удобрения угодий. На достигнутых
успехах он не останавливался и с утра объезжал город на своей пролетке, глядя на улицы,
заходя на задние дворы и расспрашивая встречных нищих, чтобы открыть еще какой-нибудь
хлам для государственной утилизации. С Гопнером он тоже сошелся на широкой почве
утилизации. Фуфаев всех спрашивал одинаково серьезно:
— Товарищ, наше государство не так богато, нет ли у тебя чего-нибудь негодного —
для утиля?
— Чего например? — спрашивал любой товарищ.
Фуфаев не затруднялся:
— Чего-нибудь съеденного, сырого, либо мочалочки какой-нибудь, либо еще