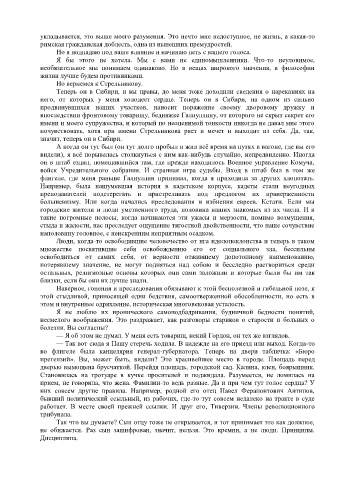Page 176 - Доктор Живаго
P. 176
укладывается, это выше моего разумения. Это нечто мне недоступное, не жизнь, а какая-то
римская гражданская доблесть, одна из нынешних премудростей.
Но я подпадаю под ваше влияние и начинаю петь с вашего голоса.
Я бы этого не хотела. Мы с вами не единомышленники. Что-то неуловимое,
необязательное мы понимаем одинаково. Но в вещах широкого значения, в философии
жизни лучше будем противниками.
Но вернемся к Стрельникову.
Теперь он в Сибири, и вы правы, до меня тоже доходили сведения о нареканиях на
него, от которых у меня холодеет сердце. Теперь он в Сибири, на одном из сильно
продвинувшихся наших участков, наносит поражение своему дворовому дружку и
впоследствии фронтовому товарищу, бедняжке Галиуллину, от которого не скрыт секрет его
имени и моего супружества, и который по неоценимой тонкости никогда не давал мне этого
почувствовать, хотя при имени Стрельникова рвет и мечет и выходит из себя. Да, так,
значит, теперь он в Сибири.
А когда он тут был (он тут долго пробыл и жил всё время на путях в вагоне, где вы его
видели), я всё порывалась столкнуться с ним как-нибудь случайно, непредвиденно. Иногда
он в штаб ездил, помещавшийся там, где прежде находилось Военное управление Комуча,
войск Учредительного собрания. И странная игра судьбы. Вход в штаб был в том же
флигеле, где меня раньше Галиуллин принимал, когда я приходила за других хлопотать.
Например, была нашумевшая история в кадетском корпусе, кадеты стали неугодных
преподавателей подстерегать и пристреливать под предлогом их приверженности
большевизму. Или когда начались преследования и избиения евреев. Кстати. Если мы
городские жители и люди умственного труда, половина наших знакомых из их числа. И в
такие погромные полосы, когда начинаются эти ужасы и мерзости, помимо возмущения,
стыда и жалости, нас преследует ощущение тягостной двойственности, что наше сочувствие
наполовину головное, с неискренним неприятным осадком.
Люди, когда-то освободившие человечество от ига идолопоклонства и теперь в таком
множестве посвятившие себя освобождению его от социального зла, бессильны
освободиться от самих себя, от верности отжившему допотопному наименованию,
потерявшему значение, не могут подняться над собою и бесследно раствориться среди
остальных, религиозные основы которых они сами заложили и которые были бы им так
близки, если бы они их лучше знали.
Наверное, гонения и преследования обязывают к этой бесполезной и гибельной позе, к
этой стыдливой, приносящей одни бедствия, самоотверженной обособленности, но есть в
этом и внутреннее одряхление, историческая многовековая усталость.
Я не люблю их иронического самоподбадривания, будничной бедности понятий,
несмелого воображения. Это раздражает, как разговоры стариков о старости и больных о
болезни. Вы согласны?
— Я об этом не думал. У меня есть товарищ, некий Гордон, он тех же взглядов.
— Так вот сюда я Пашу стеречь ходила. В надежде на его приезд или выход. Когда-то
во флигеле была канцелярия генерал-губернатора. Теперь на двери табличка: «Бюро
претензий». Вы, может быть, видели? Это красивейшее место в городе. Площадь перед
дверью вымощена брусчаткой. Перейдя площадь, городской сад. Калина, клен, боярышник.
Становилась на тротуаре в кучке просителей и поджидала. Разумеется, не ломилась на
прием, не говорила, что жена. Фамилии-то ведь разные. Да и при чем тут голос сердца? У
них совсем другие правила. Например, родной его отец Павел Ферапонтович Антипов,
бывший политический ссыльный, из рабочих, где-то тут совсем недалеко на тракте в суде
работает. В месте своей прежней ссылки. И друг его, Тиверзин. Члены революционного
трибунала.
Так что вы думаете? Сын отцу тоже не открывается, и тот принимает это как должное,
не обижается. Раз сын зашифрован, значит, нельзя. Это кремни, а не люди. Принципы.
Дисциплина.