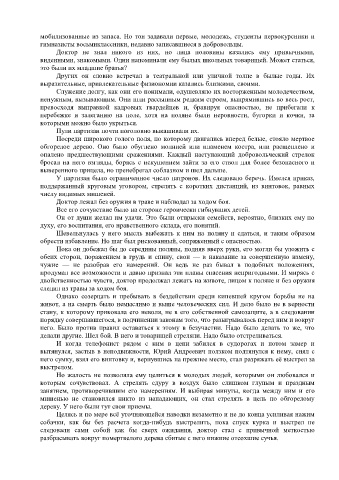Page 194 - Доктор Живаго
P. 194
мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодежь, студенты первокурсники и
гимназисты восьмиклассники, недавно записавшиеся в добровольцы.
Доктор не знал никого из них, но лица половины казались ему привычными,
виденными, знакомыми. Одни напоминали ему былых школьных товарищей. Может статься,
это были их младшие братья?
Других он словно встречал в театральной или уличной толпе в былые годы. Их
выразительные, привлекательные физиономии казались близкими, своими.
Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их восторженным молодечеством,
ненужным, вызывающим. Они шли рассыпным редким строем, выпрямившись во весь рост,
превосходя выправкой кадровых гвардейцев и, бравируя опасностью, не прибегали к
перебежке и залеганию на поле, хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за
которыми можно было укрыться.
Пули партизан почти поголовно выкашивали их.
Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое
обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра, или расщеплено и
опалено предшествующими сражениями. Каждый наступающий добровольческий стрелок
бросал на него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол для более безопасного и
выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше.
У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ,
поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций, из винтовок, равных
числу видимых мишеней.
Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя.
Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей.
Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по
духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий.
Шевельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну и сдаться, и таким образом
обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью.
Пока он добежал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с
обеих сторон, поражением в грудь и спину, свои — в наказание за совершенную измену,
чужие — не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях,
продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непригодными. И мирясь с
двойственностью чувств, доктор продолжал лежать на животе, лицом к поляне и без оружия
следил из травы за ходом боя.
Однако созерцать и пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на
живот, а на смерть было немыслимо и выше человеческих сил. И дело было не в верности
стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании
порядку совершавшегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и вокруг
него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что
делали другие. Шел бой. В него и товарищей стреляли. Надо было отстреливаться.
И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер и
вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с
него сумку, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать её выстрел за
выстрелом.
Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и
которым сочувствовал. А стрелять сдуру в воздух было слишком глупым и праздным
занятием, противоречившим его намерениям. И выбирая минуты, когда между ним и его
мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому
дереву. У него были тут свои приемы.
Целясь и по мере всё уточняющейся наводки незаметно и не до конца усиливая нажим
собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не
следовали сами собой как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью
разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья.