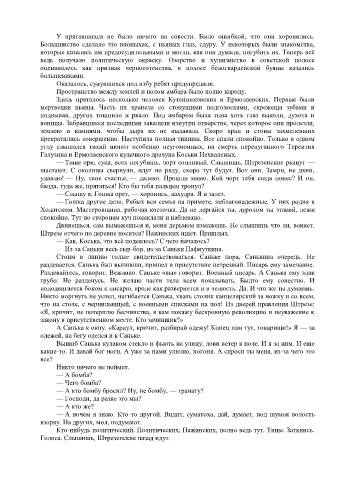Page 190 - Доктор Живаго
P. 190
У прятавшихся не было ничего на совести. Было ошибкой, что они хоронились.
Большинство сделало это впопыхах, с пьяных глаз, сдуру. У некоторых были знакомства,
которые казались им предосудительными и могли, как они думали, погубить их. Теперь всё
ведь получало политическую окраску. Озорство и хулиганство в советской полосе
оценивалось как признак черносотенства, в полосе белогвардейской буяны казались
большевиками.
Оказалось, сунувшихся под избу ребят предупредили.
Пространство между землей и полом амбара было полно народу.
Здесь пряталось несколько человек Кутейниковских и Ермолаевских. Первые были
мертвецки пьяны. Часть их храпела со стонущими подголосками, скрежеща зубами и
подвывая, других тошнило и рвало. Под амбаром была тьма хоть глаз выколи, духота и
вонища. Забравшиеся последними завалили изнутри отверстие, через которое они пролезли,
землею и камнями, чтобы дыра их не выдавала. Скоро храп и стоны захмелевших
прекратились совершенно. Наступила полная тишина. Все спали спокойно. Только в одном
углу слышался тихий шопот особенно неугомонных, на смерть перепуганного Терентия
Галузина и Ермолаевского кулачного драчуна Коськи Нехваленых.
— Тише ори, сука, всех погубишь, чорт сопливый. Слышишь, Штрезенские рыщут —
шастают. С околицы свернули, идут по ряду, скоро тут будут. Вот они. Замри, не дхни,
удавлю! — Ну, твое счастье, — далеко. Прошли мимо. Кой чорт тебя сюда понес? И он,
балда, туда же, прятаться! Кто бы тебя пальцем тронул?
— Слышу я, Гошка орет, — хоронись, лахудра. Я и залез.
— Гошка другое дело. Рябых вся семья на примете, неблагонадежные. У них родня в
Ходатском. Мастеровщина, рабочая косточка. Да не дергайся ты, дуролом ты этакий, лежи
спокойно. Тут по сторонам куч понаклали и наблевано.
Двинешься, сам вымажешься и, меня дерьмом измажешь. Не слышишь что ли, воняет.
Штрезе отчего по деревне носится? Пажинских ищет. Пришлых.
— Как, Коська, это всё подеялось? С чего началось?
— Из-за Саньки весь сыр-бор, из-за Саньки Пафнуткина.
Стоим в линию голые свидетельствоваться. Саньке пора, Санькина очередь. Не
раздевается. Санька был выпивши, пришел в присутствие нетрезвый. Писарь ему замечание.
Раздевайтесь, говорит. Вежливо. Саньке «вы» говорит. Военный писарь. А Санька ему эдак
грубо: Не разденусь. Не желаю части тела всем показывать. Быдто ему совестно. И
пододвигается боком к писарю, вроде как развернется и в челюсть. Да. И что же ты думаешь.
Никто моргнуть не успел, нагибается Санька, хвать столик канцелярский за ножку и со всем,
что на столе, с чернильницей, с военными списками на пол! Из дверей правления Штрезе:
«Я, кричит, не потерплю бесчинства, я вам покажу бескровную революцию и неуважение к
закону в присутственном месте. Кто зачинщик?»
А Санька к окну. «Караул, кричит, разбирай одежу! Конец нам тут, товарищи!» Я — за
одежей, на бегу оделся и к Саньке.
Вышиб Санька кулаком стекло и фьють на улицу, лови ветер в поле. И я за ним. И еще
какие-то. И давай бог ноги. А уже за нами улюлю, погоня. А спроси ты меня, из-за чего это
все?
Никто ничего не поймет.
— А бомба?
— Чего бомба?
— А кто бомбу бросил? Ну, не бомбу, — гранату?
— Господи, да разве это мы?
— А кто же?
— А почем я знаю. Кто-то другой. Видит, суматоха, дай, думает, под шумок волость
взорву. На других, мол, подумают.
Кто-нибудь политический. Политических, Пажинских, полно ведь тут. Тише. Заткнись.
Голоса. Слышишь, Штрезенские назад идут.