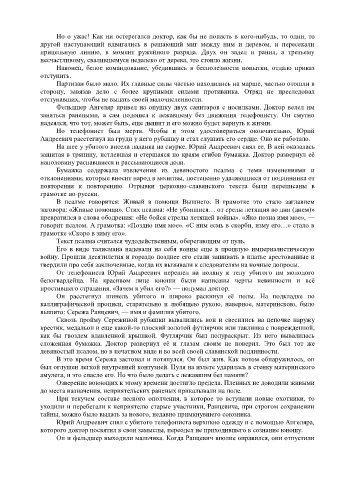Page 195 - Доктор Живаго
P. 195
Но о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то
другой наступающий вдвигались в решающий миг между ним и деревом, и пересекали
прицельную линию, в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, а третьему
несчастливому, свалившемуся недалеко от дерева, это стоило жизни.
Наконец, белое командование, убедившись в бесполезности попытки, отдало приказ
отступить.
Партизан было мало. Их главные силы частью находились на марше, частью отошли в
сторону, завязав дело с более крупными силами противника. Отряд не преследовал
отступавших, чтобы не выдать своей малочисленности.
Фельдшер Ангеляр привел на опушку двух санитаров с носилками. Доктор велел им
заняться ранеными, а сам подошел к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно
надеялся, что тот, может быть, еще дышит и его можно будет вернуть к жизни.
Но телефонист был мертв. Чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий
Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало.
На шее у убитого висела ладанка на снурке. Юрий Андреевич снял ее. В ней оказалась
зашитая в тряпицу, истлевшая и стершаяся по краям сгибов бумажка. Доктор развернул её
наполовину распавшиеся и рассыпающиеся доли.
Бумажка содержала извлечения из девяностого псалма с теми изменениями и
отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника от
повторения к повторению. Отрывки церковно-славянского текста были переписаны в
грамотке по-русски.
В псалме говорится: Живый в помощи Вышнего. В грамотке это стало заглавием
заговора: «Живые помощи». Стих псалма: «Не убоишися… от срелы летящия во дни (днем)»
превратился в слова ободрения: «Не бойся стрелы летящей войны». «Яко позна имя мое», —
говорит псалом. А грамотка: «Поздно имя мое». «С ним есмь в скорби, изму его…» стало в
грамотке «Скоро в зиму его».
Текст псалма считался чудодейственным, оберегающим от пуль.
Его в виде талисмана надевали на себя воины еще в прошлую империалистическую
войну. Прошли десятилетия и гораздо позднее его стали зашивать в платье арестованные и
твердили про себя заключенные, когда их вызывали к следователям на ночные допросы.
От телефониста Юрий Андреевич перешел на поляну к телу убитого им молодого
белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и всё
простившего страдания. «Зачем я убил его?» — подумал доктор.
Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул её полы. На подкладке по
каллиграфической прописи, старательно и любящею рукою, наверное, материнскою, было
вышито: Сережа Ранцевич, — имя и фамилия убитого.
Сквозь пройму Сережиной рубашки вывалились вон и свесились на цепочке наружу
крестик, медальон и еще какой-то плоский золотой футлярчик или тавлинка с поврежденной,
как бы гвоздем вдавленной крышкой. Футлярчик был полураскрыт. Из него вывалилась
сложенная бумажка. Доктор развернул её и глазам своим не поверил. Это был тот же
девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности.
В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он
был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского
амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти?
Озверение воюющих к этому времени достигло предела. Пленных не доводили живыми
до места назначения, неприятельских раненых прикалывали на поле.
При текучем составе лесного ополчения, в которое то вступали новые охотники, то
уходили и перебегали к неприятелю старые участники, Ранцевича, при строгом сохранении
тайны, можно было выдать за нового, недавно примкнувшего союзника.
Юрий Андреевич снял с убитого телефониста верхнюю одежду и с помощью Ангеляра,
которого доктор посвятил в свои замыслы, переодел не приходившего в сознание юношу.
Он и фельдшер выходили мальчика. Когда Ранцевич вполне оправился, они отпустили