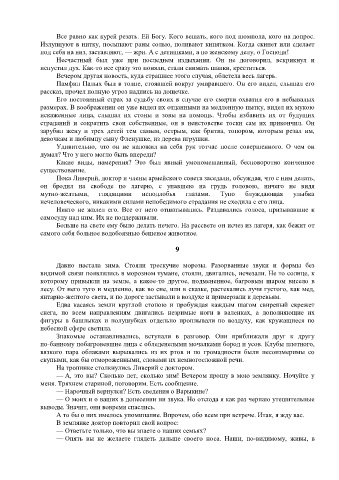Page 215 - Доктор Живаго
P. 215
Все равно как курей резать. Ей Богу. Кого вешать, кого под шомпола, кого на допрос.
Излупцуют в нитку, посыпают раны солью, поливают кипятком. Когда скинет или сделает
под себя на низ, заставляют, — жри. А с детишками, а по женскому делу, о Господи!
Несчастный был уже при последнем издыхании. Он не договорил, вскрикнул и
испустил дух. Как-то все сразу это поняли, стали снимать шапки, креститься.
Вечером другая новость, куда страшнее этого случая, облетела весь лагерь.
Памфил Палых был в толпе, стоявшей вокруг умиравшего. Он его видел, слышал его
рассказ, прочел полную угроз надпись на дощечке.
Его постоянный страх за судьбу своих в случае его смерти охватил его в небывалых
размерах. В воображении он уже видел их отданными на медленную пытку, видел их мукою
искаженные лица, слышал их стоны и зовы на помощь. Чтобы избавить их от будущих
страданий и сократить свои собственные, он в неистовстве тоски сам их прикончил. Он
зарубил жену и трех детей тем самым, острым, как бритва, топором, которым резал им,
девочкам и любимцу сыну Фленушке, из дерева игрушки.
Удивительно, что он не наложил на себя рук тотчас после совершенного. О чем он
думал? Что у него могло быть впереди?
Какие виды, намерения? Это был явный умопомешанный, бесповоротно конченное
существование.
Пока Ливерий, доктор и члены армейского совета заседали, обсуждая, что с ним делать,
он бродил на свободе по лагерю, с упавшею на грудь головою, ничего не видя
мутно-желтыми, глядящими исподлобья глазами. Тупо блуждающая улыбка
нечеловеческого, никакими силами непобедимого страдания не сходила с его лица.
Никто не жалел его. Все от него отшатывались. Раздавались голоса, призывавшие к
самосуду над ним. Их не поддерживали.
Больше на свете ему было делать нечего. На рассвете он исчез из лагеря, как бежит от
самого себя больное водобоязнью бешеное животное.
9
Давно настала зима. Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и формы без
видимой связи появлялись в морозном тумане, стояли, двигались, исчезали. Не то солнце, к
которому привыкли на земле, а какое-то другое, подмененное, багровым шаром висело в
лесу. От него туго и медленно, как во сне, или в сказке, растекались лучи густого, как мед,
янтарно-желтого света, и по дороге застывали в воздухе и примерзали к деревьям.
Едва касаясь земли круглой стопою и пробуждая каждым шагом свирепый скрежет
снега, по всем направлениям двигались незримые ноги в валенках, а дополняющие их
фигуры в башлыках и полушубках отдельно проплывали по воздуху, как кружащиеся по
небесной сфере светила.
Знакомые останавливались, вступали в разговор. Они приближали друг к другу
по-банному побагровевшие лица с обледенелыми мочалками бород и усов. Клубы плотного,
вязкого пара облаками вырывались из их ртов и по громадности были несоизмеримы со
скупыми, как бы отмороженными, словами их немногосложной речи.
На тропинке столкнулись Ливерий с доктором.
— А, это вы? Сколько лет, сколько зим! Вечером прошу в мою землянку. Ночуйте у
меня. Тряхнем стариной, поговорим. Есть сообщение.
— Нарочный вернулся? Есть сведения о Варыкине?
— О моих и о ваших в донесении ни звука. Но отсюда я как раз черпаю утешительные
выводы. Значит, они вовремя спаслись.
А то бы о них имелось упоминание. Впрочем, обо всем при встрече. Итак, я жду вас.
В землянке доктор повторил свой вопрос:
— Ответьте только, что вы знаете о наших семьях?
— Опять вы не желаете глядеть дальше своего носа. Наши, по-видимому, живы, в