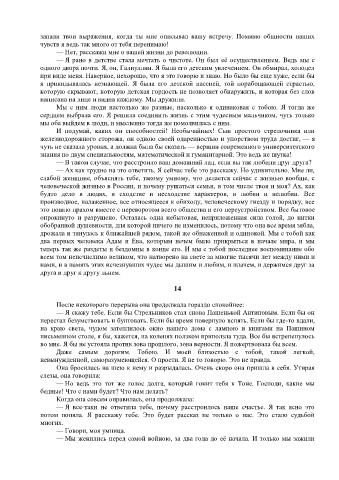Page 233 - Доктор Живаго
P. 233
запали твои выражения, когда ты мне описывал вашу встречу. Помимо общности наших
чувств я ведь так много от тебя перенимаю!
— Нет, расскажи мне о вашей жизни до революции.
— Я рано в детстве стала мечтать о чистоте. Он был её осуществлением. Ведь мы с
одного двора почти. Я, он, Галиуллин. Я была его детским увлечением. Он обмирал, холодел
при виде меня. Наверное, нехорошо, что я это говорю и знаю. Но было бы еще хуже, если бы
я прикидывалась незнающей. Я была его детской пассией, той порабощающей страстью,
которую скрывают, которую детская гордость не позволяет обнаружить, и которая без слов
написана на лице и видна каждому. Мы дружили.
Мы с ним люди настолько же разные, насколько я одинаковая с тобою. Я тогда же
сердцем выбрала его. Я решила соединить жизнь с этим чудесным мальчиком, чуть только
мы оба выйдем в люди, и мысленно тогда же помолвилась с ним.
И подумай, каких он способностей! Необычайных! Сын простого стрелочника или
железнодорожного сторожа, он одною своей одаренностью и упорством труда достиг, — я
чуть не сказала уровня, а должна была бы сказать — вершин современного университетского
знания по двум специальностям, математической и гуманитарной. Это ведь не шутка!
— В таком случае, что расстроило ваш домашний лад, если вы так любили друг друга?
— Ах как трудно на это ответить. Я сейчас тебе это расскажу. Но удивительно. Мне ли,
слабой женщине, объяснять тебе, такому умному, что делается сейчас с жизнью вообще, с
человеческой жизнью в России, и почему рушаться семьи, в том числе твоя и моя? Ах, как
будто дело в людях, в сходстве и несходстве характеров, в любви и нелюбви. Все
производное, налаженное, все относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку, все
это пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. Все бытовое
опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила голой, до нитки
обобранной душевности, для которой ничего не изменилось, потому что она все время зябла,
дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой. Мы с тобой как
два первых человека Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы
теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо
всем том неисчислимо великом, что натворено на свете за многие тысячи лет между ними и
нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за
друга и друг к другу льнем.
14
После некоторого перерыва она продолжала гораздо спокойнее:
— Я скажу тебе. Если бы Стрельников стал снова Пашенькой Антиповым. Если бы он
перестал безумствовать и бунтовать. Если бы время повернуло вспять. Если бы где-то вдали,
на краю света, чудом затеплилось окно нашего дома с лампою и книгами на Пашином
письменном столе, я бы, кажется, на коленях ползком приползла туда. Все бы встрепенулось
во мне. Я бы не устояла против зова прошлого, зова верности. Я пожертвовала бы всем.
Даже самым дорогим. Тобою. И моей близостью с тобой, такой легкой,
невынужденной, саморазумеющейся. О прости. Я не то говорю. Это не правда.
Она бросилась на шею к нему и разрыдалась. Очень скоро она пришла в себя. Утирая
слезы, она говорила:
— Но ведь это тот же голос долга, который гонит тебя к Тоне. Господи, какие мы
бедные! Что с нами будет? Что нам делать?
Когда она совсем оправилась, она продолжала:
— Я все-таки не ответила тебе, почему расстроилось наше счастье. Я так ясно это
потом поняла. Я расскажу тебе. Это будет рассказ не только о нас. Это стало судьбой
многих.
— Говори, моя умница.
— Мы женились перед самой войною, за два года до её начала. И только мы зажили