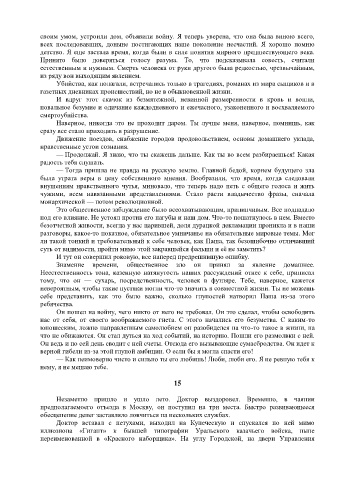Page 234 - Доктор Живаго
P. 234
своим умом, устроили дом, объявили войну. Я теперь уверена, что она была виною всего,
всех последовавших, доныне постигающих наше поколение несчастий. Я хорошо помню
детство. Я еще застала время, когда были в силе понятия мирного предшествующего века.
Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали
естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, чрезвычайным,
из ряду вон выходящим явлением.
Убийства, как полагали, встречались только в трагедиях, романах из мира сыщиков и в
газетных дневниках происшествий, но не в обыкновенной жизни.
И вдруг этот скачок из безмятежной, невинной размеренности в кровь и вопли,
повальное безумие и одичание каждодневного и ежечасного, узаконенного и восхваляемого
смертоубийства.
Наверное, никогда это не проходит даром. Ты лучше меня, наверное, помнишь, как
сразу все стало приходить в разрушение.
Движение поездов, снабжение городов продовольствием, основы домашнего уклада,
нравственные устои сознания.
— Продолжай. Я знаю, что ты скажешь дальше. Как ты во всем разбираешься! Какая
радость тебя слушать.
— Тогда пришла не правда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла
была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали
внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить
чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала
монархической — потом революционной.
Это общественное заблуждение было всеохватывающим, прилипчивым. Все подпадало
под его влияние. Не устоял против его пагубы и наш дом. Что-то пошатнулось в нем. Вместо
безотчетной живости, всегда у нас царившей, доля дурацкой декламации проникла и в наши
разговоры, какое-то показное, обязательное умничанье на обязательные мировые темы. Мог
ли такой тонкий и требовательный к себе человек, как Паша, так безошибочно отличавший
суть от видимости, пройти мимо этой закравшейся фальши и её не заметить?
И тут он совершил роковую, все наперед предрешившую ошибку.
Знамение времени, общественное зло он принял за явление домашнее.
Неестественность тона, казенную натянутость наших рассуждений отнес к себе, приписал
тому, что он — сухарь, посредственность, человек в футляре. Тебе, наверное, кажется
невероятным, чтобы такие пустяки могли что-то значить в совместной жизни. Ты не можешь
себе представить, как это было важно, сколько глупостей натворил Паша из-за этого
ребячества.
Он пошел на войну, чего никто от него не требовал. Он это сделал, чтобы освободить
нас от себя, от своего воображаемого гнета. С этого начались его безумства. С каким-то
юношеским, ложно направленным самолюбием он разобиделся на что-то такое в жизни, на
что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его размолвки с ней.
Он ведь и по сей день сводит с ней счеты. Отсюда его вызывающие сумасбродства. Он идет к
верной гибели из-за этой глупой амбиции. О если бы я могла спасти его!
— Как неимоверно чисто и сильно ты его любишь! Люби, люби его. Я не ревную тебя к
нему, я не мешаю тебе.
15
Незаметно пришло и ушло лето. Доктор выздоровел. Временно, в чаянии
предполагаемоего отъезда в Москву, он поступил на три места. Быстро развивающееся
обесценение денег заставляло ловчиться на нескольких службах.
Доктор вставал с петухами, выходил на Купеческую и спускался по ней мимо
иллюзиона «Гигант» к бывшей типографии Уральского казачьего войска, ныне
переименованной в «Красного наборщика». На углу Городской, на двери Управления