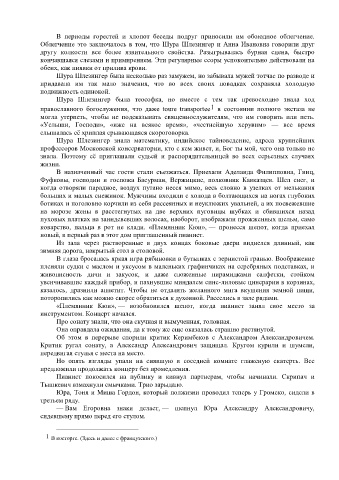Page 38 - Доктор Живаго
P. 38
В периоды горестей и хлопот беседы подруг приносили им обоюдное облегчение.
Облегчение это заключалось в том, что Шура Шлезингер и Анна Ивановна говорили друг
другу колкости все более язвительного свойства. Разыгрывалась бурная сцена, быстро
кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на
обеих, как пиявки от прилива крови.
Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужей тотчас по разводе и
придавала им так мало значения, что во всех своих повадках сохраняла холодную
подвижность одинокой.
Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно знала ход
1
православного богослужения, что даже toure transportee в состоянии полного экстаза не
могла утерпеть, чтобы не подсказывать священнослужителям, что им говорить или петь.
«Услыши, Господи», «иже на всякое время», «честнейшую херувим» — все время
слышалась её хриплая срывающаяся скороговорка.
Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведение, адреса крупнейших
профессоров Московской консерватории, кто с кем живет, и, Бог ты мой, чего она только не
знала. Поэтому её приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях
жизни.
В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц,
Фуфковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и
когда отворяли парадное, воздух путано несся мимо, весь словно в узелках от мелькания
больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких
ботиках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увальней, а их посвежевшие
на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад
пуховых платках на заиндевевших волосах, наоборот, изображали прожженных шельм, само
коварство, пальца в рот не клади. «Племянник Кюи», — пронесся шепот, когда приехал
новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист.
Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как
зимняя дорога, накрытый стол в столовой.
В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение
пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках, и
живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, стойком
увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах,
казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи,
поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале рядами.
«Племянник Кюи», — возобновился шепот, когда пианист занял свое место за
инструментом. Концерт начался.
Про сонату знали, что она скучная и вымученная, головная.
Она оправдала ожидания, да к тому же еще оказалась страшно растянутой.
Об этом в перерыве спорили критик Керимбеков с Александром Александровичем.
Критик ругал сонату, а Александр Александрович защищал. Кругом курили и шумели,
передвигая стулья с места на место.
Но опять взгляды упали на сиявшую в соседней комнате глаженую скатерть. Все
предложили продолжать концерт без промедления.
Пианист покосился на публику и кивнул партнерам, чтобы начинали. Скрипач и
Тышкевич взмахнули смычками. Трио зарыдало.
Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громеко, сидели в
третьем ряду.
— Вам Егоровна знаки делает, — шепнул Юра Александру Александровичу,
сидевшему прямо перед его стулом.
1 В восторге. (Здесь и далее с французского.)