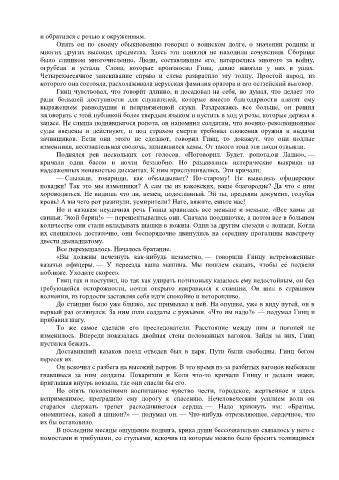Page 92 - Доктор Живаго
P. 92
и обратился с речью к окруженным.
Опять он по своему обыкновению говорил о воинском долге, о значении родины и
многих других высоких предметах. Здесь эти понятия не находили сочувствия. Сборище
было слишком многочисленно. Люди, составлявшие его, натерпелись многого за войну,
огрубели и устали. Слова, которые произносил Гинц, давно навязли у них в ушах.
Четырехмесячное заискивание справа и слева развратило эту толпу. Простой народ, из
которого она состояла, расхолаживала нерусская фамилия оратора и его остзейский выговор.
Гинц чувствовал, что говорит длинно, и досадовал на себя, но думал, что делает это
ради большей доступности для слушателей, которые вместо благодарности платят ему
выражением равнодушия и неприязненной скуки. Раздражаясь все больше, он решил
заговорить с этой публикой более твердым языком и пустить в ход угрозы, которые держал в
запасе. Не слыша поднявшегося ропота, он напомнил солдатам, что военно-революционные
суды введены и действуют, и под страхом смерти требовал сложения оружия и выдачи
зачинщиков. Если они этого не сделают, говорил Гинц, то докажут, что они подлые
изменники, несознательная сволочь, зазнавшиеся хамы. От такого тона эти люди отвыкли.
Поднялся рев нескольких сот голосов. «Поговорил. Будет. ропота,он Ладно», —
кричали одни басом и почти беззлобно. Но раздавались истерические выкрики на
надсаженных ненавистью дискантах. К ним прислушивались. Эти кричали:
— Слыхали, товарищи, как обкладывает? По-старому! Не вывелись офицерские
повадки! Так это мы изменники? А сам ты из каковских, ваше благородие? Да что с ним
хороводиться. Не видишь что ли, немец, подосланный. Эй ты, предъяви документ, голубая
кровь! А вы чего рот разинули, усмирители? Нате, вяжите, ешьте нас!
Но и казакам неудачная речь Гинца нравилась все меньше и меньше. «Все хамы да
свиньи. Экой барин!» — перешептывались они. Сначала поодиночке, а потом все в большем
количестве они стали вкладывать шашки в ножны. Один за другим слезали с лошади. Когда
их спешилось достаточно, они беспорядочно двинулись на середину прогалины навстречу
двести двенадцатому.
Все перемешалось. Началось братание.
«Вы должны исчезнуть как-нибудь незаметно, — говорили Гинцу встревоженные
казачьи офицеры. — У переезда ваша машина. Мы пошлем сказать, чтобы её подвели
поближе. Уходите скорее».
Гинц так и поступил, но так как удирать потихоньку казалось ему недостойным, он без
требующейся осторожности, почти открыто направился к станции. Он шел в страшном
волнении, из гордости заставляя себя идти спокойно и неторопливо.
До станции было уже близко, лес примыкал к ней. На опушке, уже в виду путей, он в
первый раз оглянулся. За ним шли солдаты с ружьями. «Что им надо?» — подумал Гинц и
прибавил шагу.
То же самое сделали его преследователи. Расстояние между ним и погоней не
изменилось. Впереди показалась двойная стена поломанных вагонов. Зайдя за них, Гинц
пустился бежать.
Доставивший казаков поезд отведен был в парк. Пути были свободны. Гинц бегом
пересек их.
Он вскочил с разбега на высокий перрон. В это время из-за разбитых вагонов выбежали
гнавшиеся за ним солдаты. Поварихин и Коля что-то кричали Гинцу и делали знаки,
приглашая внутрь вокзала, где они спасли бы его.
Но опять поколениями воспитанное чувство чести, городское, жертвенное и здесь
неприменимое, преградило ему дорогу к спасению. Нечеловеческим усилием воли он
старался сдержать трепет расходившегося сердца. — Надо крикнуть им: «Братцы,
опомнитесь, какой я шпион?» — подумал он. — Что-нибудь отрезвляющее, сердечное, что
их бы остановило.
В последние месяцы ощущение подвига, крика души бессознательно связалось у него с
помостами и трибунами, со стульями, вскочив на которые можно было бросить толпящимся