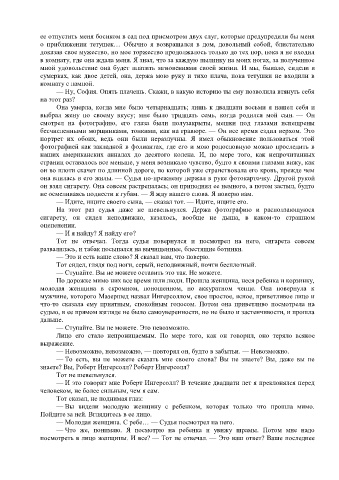Page 184 - Собрание рассказов
P. 184
ее отпустить меня босиком в сад под присмотром двух слуг, которые предупредили бы меня
о приближении тетушек… Обычно я возвращался в дом, довольный собой, блистательно
доказав свое мужество, но мое торжество продолжалось только до тех пор, пока я не входил
в комнату, где она ждала меня. Я знал, что за каждую пылинку на моих ногах, за полученное
мной удовольствие она будет платить мгновениями своей жизни. И мы, бывало, сидели в
сумерках, как двое детей, она, держа мою руку и тихо плача, пока тетушки не входили в
комнату с лампой.
— Ну, София. Опять плачешь. Скажи, в какую историю ты ему позволила втянуть себя
на этот раз?
Она умерла, когда мне было четырнадцать; лишь к двадцати восьми я нашел себя и
выбрал жену по своему вкусу; мне было тридцать семь, когда родился мой сын. — Он
смотрел на фотографию, его глаза были полузакрыты, мешки под глазами испещрены
бесчисленными морщинками, тонкими, как на гравюре. — Он все время ездил верхом. Это
портрет их обоих, ведь они были неразлучны. Я имел обыкновение пользоваться этой
фотографией как закладкой в фолиантах, где его и мою родословную можно проследить в
наших американских анналах до десятого колена. И, по мере того, как непрочитанных
страниц оставалось все меньше, у меня возникало чувство, будто я своими глазами вижу, как
он во плоти скачет по длинной дороге, по которой уже странствовала его кровь, прежде чем
она влилась в его жилы. — Судья по-прежнему держал в руке фотокарточку. Другой рукой
он взял сигарету. Она совсем растрепалась; он приподнял ее немного, а потом застыл, будто
не осмеливаясь поднести к губам. — Я жду вашего слова. Я поверю вам.
— Идите, ищите своего сына, — сказал тот. — Идите, ищите его.
На этот раз судья даже не шевельнулся. Держа фотографию и расползающуюся
сигарету, он сидел неподвижно, казалось, вообще не дыша, в каком-то страшном
оцепенении.
— И я найду? Я найду его?
Тот не отвечал. Тогда судья повернулся и посмотрел на него, сигарета совсем
развалилась, и табак посыпался на вычищенные, блестящие ботинки.
— Это и есть ваше слово? Я сказал вам, что поверю.
Тот сидел, глядя под ноги, серый, неподвижный, почти бесплотный.
— Ступайте. Вы не можете оставить это так. Не можете.
По дорожке мимо них все время шли люди. Прошла женщина, неся ребенка и корзинку,
молодая женщина в скромном, поношенном, но аккуратном чепце. Она повернула к
мужчине, которого Мазершед назвал Ингерсоллом, свое простое, ясное, приветливое лицо и
что-то сказала ему приятным, спокойным голосом. Потом она приветливо посмотрела на
судью, в ее прямом взгляде не было самоуверенности, но не было и застенчивости, и прошла
дальше.
— Ступайте. Вы не можете. Это невозможно.
Лицо его стало непроницаемым. По мере того, как он говорил, оно теряло всякое
выражение.
— Невозможно, невозможно, — повторял он, будто в забытьи. — Невозможно.
— То есть, вы не можете сказать мне своего слова? Вы не знаете? Вы, даже вы не
знаете? Вы, Роберт Ингерсолл? Роберт Ингерсолл?
Тот не шевельнулся.
— И это говорит мне Роберт Ингерсолл? В течение двадцати лет я преклонялся перед
человеком, не более сильным, чем я сам.
Тот сказал, не поднимая глаз:
— Вы видели молодую женщину с ребенком, которая только что прошла мимо.
Пойдите за ней. Вглядитесь в ее лицо.
— Молодая женщина. С ребе… — Судья посмотрел на него.
— Что же, понимаю. Я посмотрю на ребенка и увижу шрамы. Потом мне надо
посмотреть в лицо женщины. И все? — Тот не отвечал. — Это ваш ответ? Ваше последнее