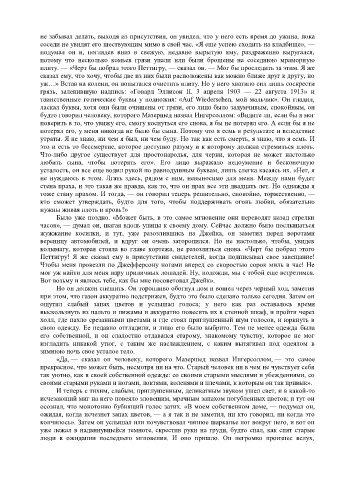Page 187 - Собрание рассказов
P. 187
не забывал делать, выходя из присутствия, он увидел, что у него есть время до ужина, пока
соседи не увидят его шествующим мимо в свой час. «Я еще успею сходить на кладбище», —
подумал он и, поглядев вниз в свежую, недавно вырытую яму, раздраженно выругался,
потому что несколько комьев грязи упали или были брошены на соседнюю мраморную
плиту. — «Черт бы побрал этого Петтигру, — сказал он. — Мог бы проследить за этим. Я же
сказал ему, что хочу, чтобы две из них были расположены как можно ближе друг к другу, но
уж…» Встав на колени, он попытался очистить плиту. Но у него хватило сил лишь соскрести
грязь, залепившую надпись: «Говард Эллисон II. 3 апреля 1903 — 22 августа 1913» и
таинственные готические буквы у подножия: «Auf Wiedersehen, мой мальчик». Он гладил,
ласкал буквы, хотя они были очищены от грязи, его лицо было задумчивым, спокойным, он
будто говорил человеку, которого Мазершед назвал Ингерсоллом: «Видите ли, если бы я мог
поверить в то, что увижу его, смогу коснуться его снова, я бы не потерял его. А если бы я не
потерял его, у меня никогда не было бы сына. Потому что я есмь в результате и вследствие
утраты. Я не знаю, ни чем я был, ни чем буду. Но так как есть смерть, я знаю, что я есмь. И
это и есть то бессмертие, которое доступно разуму и к которому должна стремиться плоть.
Что-либо другое существует для простонародья, для черни, которая не может настолько
любить сына, чтобы потерять его». Его лицо выражало недоумение и бесконечную
усталость, он все еще водил рукой по равнодушным буквам, лишь слегка касаясь их. «Нет, я
не нуждаюсь в этом. Лгать здесь, рядом с ним, невыносимо для меня. Между нами будет
стена праха, и это такая же правда, как то, что он прах все эти двадцать лет. Но однажды я
тоже стану прахом. И тогда, — он говорил теперь решительно, спокойно, торжественно, —
кто сможет утверждать, будто для того, чтобы поддерживать огонь любви, обязательно
нужны живая плоть и кровь?»
Было уже поздно. «Может быть, в это самое мгновение они переводят назад стрелки
часов», — думал он, шагая вдоль улицы к своему дому. Сейчас должно было послышаться
жужжание косилки, и тут, уже разозлившись на Джейка, он заметил перед воротами
вереницу автомобилей, и вдруг он очень заторопился. Но не настолько, чтобы, увидев
колымагу, которая стояла во главе кортежа, не разозлиться снова. «Черт бы побрал этого
Петтигру! Я же сказал ему в присутствии свидетелей, когда подписывал свое завещание!
Чтобы меня провезли по Джефферсону ногами вперед со скоростью сорок миль в час! Не
мог уж найти для меня пару приличных лошадей. Ну, подожди, мы с тобой еще встретимся.
Вот возьму и явлюсь тебе, как бы мне посоветовал Джейк».
Но он должен спешить. Он торопливо обогнул дом и вошел через черный ход, заметив
при этом, что газон аккуратно подстрижен, будто это было сделано только сегодня. Затем он
ощутил слабый запах цветов и услышал голоса; у него как раз оставалось время
выскользнуть из пальто и пижамы и аккуратно повесить их в стенной шкаф, и пройти через
холл, где пахло срезанными цветами и где стоял приглушенный шум голосов, и юркнуть в
свою одежду. Ее недавно отгладили, и лицо его было выбрито. Тем не менее одежда была
его собственной, и он сладостно отдавался старому, знакомому чувству, которое не мог
изгладить никакой утюг, с таким же наслаждением, с каким вытягивал под одеялом в
зимнюю ночь свое усталое тело.
«Да, — сказал он человеку, которого Мазершед назвал Ингерсоллом, — это самое
прекрасное, что может быть, несмотря ни на что. Старый человек ни в чем не чувствует себя
так уютно, как в своей собственной одежде: со своими старыми мыслями и убеждениями, со
своими старыми руками и ногами, локтями, коленями и плечами, к которым он так привык».
И теперь с тихим, слабым, приглушенным, деликатным звуком ушел свет, и в какой-то
исчезающий миг на него повеяло зловещим, мрачным запахом погубленных цветов; и тут он
осознал, что монотонно бубнящий голос затих. «В моем собственном доме, — подумал он,
ожидая, когда исчезнет запах цветов, — а я так и не заметил, ни кто говорил, ни когда это
кончилось». Затем он услышал или почувствовал чинное шарканье ног вокруг него, и вот он
уже лежал в надвинувшейся темноте, скрестив руки на груди, будто спал, как спят старые
люди в ожидании последнего мгновения. И оно пришло. Он негромко произнес вслух,