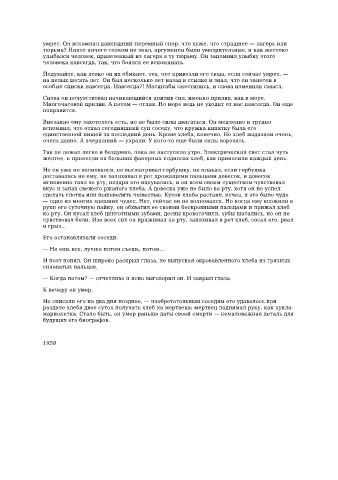Page 43 - Колымские рассказы
P. 43
умрет. Он вспомнил давнишний тюремный спор: что хуже, что страшнее — лагерь или
тюрьма? Никто ничего толком не знал, аргументы были умозрительные, и как жестоко
улыбался человек, привезенный из лагеря в ту тюрьму. Он запомнил улыбку этого
человека навсегда, так, что боялся ее вспоминать.
Подумайте, как ловко он их обманет, тех, что привезли его сюда, если сейчас умрет, —
на целых десять лет. Он был несколько лет назад в ссылке и знал, что он занесен в
особые списки навсегда. Навсегда?! Масштабы сместились, и слова изменили смысл.
Снова он почувствовал начинающийся прилив сил, именно прилив, как в море.
Многочасовой прилив. А потом — отлив. Но море ведь не уходит от нас навсегда. Он еще
поправится.
Внезапно ему захотелось есть, но не было силы двигаться. Он медленно и трудно
вспомнил, что отдал сегодняшний суп соседу, что кружка кипятку была его
единственной пищей за последний день. Кроме хлеба, конечно. Но хлеб выдавали очень,
очень давно. А вчерашний — украли. У кого-то еще были силы воровать.
Так он лежал легко и бездумно, пока не наступило утро. Электрический свет стал чуть
желтее, и принесли на больших фанерных подносах хлеб, как приносили каждый день.
Но он уже не волновался, не высматривал горбушку, не плакал, если горбушка
доставалась не ему, не запихивал в рот дрожащими пальцами довесок, и довесок
мгновенно таял во рту, ноздри его надувались, и он всем своим существом чувствовал
вкус и запах свежего ржаного хлеба. А довеска уже не было во рту, хотя он не успел
сделать глотка или пошевелить челюстью. Кусок хлеба растаял, исчез, и это было чудо
— одно из многих здешних чудес. Нет, сейчас он не волновался. Но когда ему вложили в
руки его суточную пайку, он обхватил ее своими бескровными пальцами и прижал хлеб
ко рту. Он кусал хлеб цинготными зубами, десны кровоточили, зубы шатались, но он не
чувствовал боли. Изо всех сил он прижимал ко рту, запихивал в рот хлеб, сосал его, рвал
и грыз…
Его останавливали соседи.
— Не ешь все, лучше потом съешь, потом…
И поэт понял. Он широко раскрыл глаза, не выпуская окровавленного хлеба из грязных
синеватых пальцев.
— Когда потом? — отчетливо и ясно выговорил он. И закрыл глаза.
К вечеру он умер.
Но списали его на два дня позднее, — изобретательным соседям его удавалось при
раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-
марионетка. Стало быть, он умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для
будущих его биографов.
1958