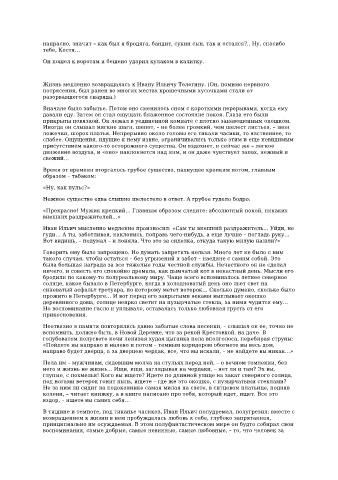Page 54 - Хождение по мукам. Хмурое утро
P. 54
напрасно, значит – как был я бродяга, бандит, сукин сын, так и остался?.. Ну, спасибо
тебе, Костя…
Он пошел к воротам и бешено ударил кулаком в калитку.
Жизнь медленно возвращалась к Ивану Ильичу Телегину. (Он, помимо нервного
потрясения, был ранен во многих местах крошечными кусочками стали от
разорвавшегося снаряда.)
Вначале было забытье. Потом оно сменилось сном с короткими перерывами, когда ему
давали еду. Затем он стал ощущать блаженное состояние покоя. Глаза его были
прикрыты повязкой. Он лежал в уединенной комнате с плотно занавешенным окошком.
Иногда он слышал мягкие шаги, шепот, – не более громкий, чем шелест листьев, – звон
ложечки, шорох платья. Непрерывно около головы его тикали часики, то явственнее, то
слабее. Ощущения, идущие к нему извне, ограничивались только этим и еще невидимым
присутствием какого-то осторожного существа. Он вздохнет, и сейчас же – легкое
движение воздуха, и «оно» наклоняется над ним, и он даже чувствует запах, нежный и
свежий…
Время от времени вторгалось грубое существо, пахнущее крепким потом, главным
образом – табаком:
«Ну, как пульс?»
Нежное существо едва слышно шелестело в ответ. А грубое гудело бодро:
«Прекрасно! Мужик крепкий… Главным образом следите: абсолютный покой, никаких
внешних раздражителей…»
Иван Ильич мысленно медленно произносил: «Сам ты внешний раздражитель… Уйди, не
гуди… А ты, заботливая, наклонись, поправь чего-нибудь, а еще лучше – погладь руку…
Вот видишь, – подумал – и поняла. Что это за сиделка, откуда такую милую нашли?»
Говорить ему было запрещено. Но думать запретить нельзя. Много лет не было с ним
такого случая, чтобы остаться – без угрызений и забот – наедине с самим собой. Это
была большая награда за все тяжелые годы честной службы. Нечестного он не сделал
ничего, и совесть его спокойно дремала, как дымчатый кот в ненастный день. Мысли его
бродили по какому-то полуреальному миру. Чаще всего вспоминалось летнее северное
солнце, какое бывало в Петербурге, когда в холодноватый день оно льет свет на
синеватый асфальт тротуара, по которому метет ветерок… Сколько думано, сколько было
прожито в Петербурге… И вот перед его закрытыми веками выплывает окошко
деревянного дома, солнце неярко светит на пузырчатые стекла, за ними чудится ему…
Но воспоминание гасло и уплывало, оставалась только любовная грусть от его
прикосновения.
Неотвязно в памяти повторялись давно забытые слова песенки, – слышал он ее, точно не
вспомнить, должно быть, в Новой Деревне, что за рекой Крестовкой, на даче. В
голубоватом полусвете ночи ленивая худая цыганка пела вполголоса, перебирая струны:
«Пойдете вы направо и налево и потом – темным коридором обогнете вы весь дом,
направо будет дверца, а за дверцею чердак, все, что вы искали, – не найдете вы никак…»
Пела им – мужчинам, сидевшим молча на стульях перед ней, – о вечном томлении, без
него и жизнь не жизнь… Ищи, ищи, заглядывая на чердаки, – нет ли и там? Эх вы,
глупые, с похмелья! Кого вы ищете? Идете по длинной улице на закат северного солнца,
под ногами ветерок гонит пыль, ищете – где же это окошко, с пузырчатыми стеклами?
Не за ним ли сидит на подоконнике самая милая на свете, в ситцевом платьице, подняв
колени, – читает книжку, а в книге написано про тебя, который идет, ищет. Все это
вздор, – ищете вы самих себя…
В тишине и темноте, под тиканье часиков, Иван Ильич полудремал, полугрезил: вместе с
возвращением к жизни в нем пробуждалась любовь к себе, глубоко запрятанная,
принципиально им осуждаемая. В этом полуфантастическом мире он будто собирал свои
воспоминания, самые добрые, самые невинные, самые любовные, – то, что человек за