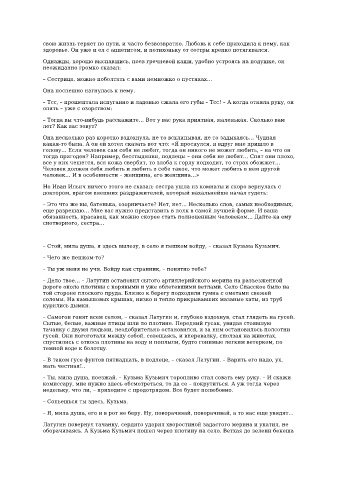Page 55 - Хождение по мукам. Хмурое утро
P. 55
свою жизнь теряет по пути, и часто безвозвратно. Любовь к себе приходила к нему, как
здоровье. Он уже и ел с аппетитом, и потихоньку от сестры крепко потягивался.
Однажды, хорошо выспавшись, поев гречневой каши, удобно устроясь на подушке, он
неожиданно громко сказал:
– Сестрица, можно поболтать с вами немножко о пустяках…
Она поспешно нагнулась к нему.
– Тсс, – прошептала испуганно и ладонью сжала его губы – Тсс! – А когда отняла руку, он
опять – уже с озорством:
– Тогда вы что-нибудь расскажите… Вот у вас рука приятная, маленькая. Сколько вам
лет? Как вас зовут?
Она несколько раз коротко вздохнула, не то всхлипывая, не то задыхаясь… Чудная
какая-то была. А он ей хотел сказать вот что: «Я проснулся, и вдруг мне пришло в
голову… Если человек сам себя не любит, тогда он никого не может любить, – на что он
тогда пригоден? Например, бесстыдники, подлецы – они себя не любят… Спят они плохо,
все у них чешется, вся кожа свербит, то злоба к горлу подходит, то страх обожжет…
Человек должен себя любить и любить в себе такое, что может любить в нем другой
человек… И в особенности – женщина, его женщина…»
Но Иван Ильич ничего этого не сказал; сестра ушла из комнаты и скоро вернулась с
доктором, врагом внешних раздражителей, который нахальнейше начал гудеть:
– Это что же вы, батенька, озорничаете? Нет, нет… Несколько слов, самых необходимых,
еще разрешаю… Мне вас нужно представить в полк в самой лучшей форме. И ваша
обязанность, красавец, как можно скорее стать полноценным человеком… Дайте-ка ему
снотворного, сестра…
– Стой, мила душа, я здесь вылезу, в село я пешком войду, – сказал Кузьма Кузьмич.
– Чего же пешком-то?
– Ты уж меня не учи. Войду как странник, – понятно тебе?
– Дело твое… – Латугин остановил сытого артиллерийского мерина на разъезженной
дороге около плотины с корявыми и уже облетевшими ветлами. Село Спасское было на
той стороне плоского пруда. Близко к берегу подходили гумна с ометами свежей
соломы. На камышовых крышах, низко и тепло прикрывавших мазаные хаты, из труб
курились дымки.
– Самогон гонят всем селом, – сказал Латугин и, глубоко вздохнув, стал глядеть на гусей.
Сытые, белые, важные птицы шли по плотине. Передний гусак, увидав стоявшую
тачанку с двумя людьми, неодобрительно остановился, и за ним остановилось полсотни
гусей. Они погоготали между собой, совещаясь, и вперевалку, сползая на животах,
спустились с откоса плотины на воду и поплыли, будто гонимые легким ветерком, по
темной воде к болотцу.
– В таком гусе фунтов пятнадцать, в подлеце, – сказал Латугин. – Варить его надо, ух,
мать честная!..
– Ты, мила душа, поезжай. – Кузьма Кузьмич торопливо стал совать ему руку. – И скажи
комиссару, мне нужно здесь обсмотреться, то да се – покрутиться. А уж тогда через
недельку, что ли, – приходите с продотрядом. Все будет полюбовно.
– Сопьешься ты здесь, Кузьма.
– Я, мила душа, его и в рот не беру. Ну, поворачивай, поворачивай, а то нас еще увидят…
Латугин повернул тачанку, сердито ударил хворостиной задастого мерина и укатил, не
оборачиваясь. А Кузьма Кузьмич пошел через плотину на село. Ветхая до зелени бекеша