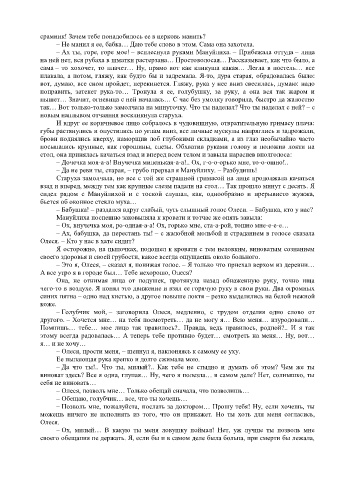Page 37 - Олеся
P. 37
срамник! Зачем тебе понадобилось ее в церковь манить?
– Не манил я ее, бабка… Даю тебе слово в этом. Сама она захотела.
– Ах ты, горе, горе мое! – всплеснула руками Мануйлиха. – Прибежала оттуда – лица
на ней нет, вся рубаха в шматки растерзана… Простоволосая… Рассказывает, как что было, а
сама – то хохочет, то плачет… Ну, прямо вот как кликуша какая… Легла в постель… все
плакала, а потом, гляжу, как будто бы и задремала. Я-то, дура старая, обрадовалась было:
вот, думаю, все сном пройдет, перекинется. Гляжу, рука у нее вниз свесилась, думаю: надо
поправить, затекет рука-то… Тронула я ее, голубушку, за руку, а она вся так жаром и
пышет… Значит, огневица с ней началась… С час без умолку говорила, быстро да жалостно
так… Вот только-только замолчала на минуточку. Что ты наделал? Что ты наделал с ней? – с
новым наплывом отчаяния воскликнула старуха.
И вдруг ее коричневое лицо собралось в чудовищную, отвратительную гримасу плача:
губы растянулись и опустились по углам вниз, все личные мускулы напряглись и задрожали,
брови поднялись кверху, наморщив лоб глубокими складками, а из глаз необычайно часто
посыпались крупные, как горошины, слезы. Обхватив руками голову и положив локти на
стол, она принялась качаться взад и вперед всем телом и завыла нараспев вполголоса:
– Дочечка моя-а-а! Внучечка миленькая-а-а!.. Ох, г-о-о-орько мне, то-о-ошно!..
– Да не реви ты, старая, – грубо прервал я Мануйлиху. – Разбудишь!
Старуха замолчала, но все с той же страшной гримасой на лице продолжала качаться
взад и вперед, между тем как крупные слезы падали на стол… Так прошло минут с десять. Я
сидел рядом с Мануйлихой и с тоской слушал, как, однообразно и прерывисто жужжа,
бьется об оконное стекло муха…
– Бабушка! – раздался вдруг слабый, чуть слышный голос Олеси. – Бабушка, кто у нас?
Мануйлиха поспешно заковыляла к кровати и тотчас же опять завыла:
– Ох, внучечка моя, ро-одная-а-а! Ох, горько мне, ста-а-рой, тошно мне-е-е-е…
– Ах, бабушка, да перестань ты! – с жалобной мольбой и страданием в голосе сказала
Олеся. – Кто у нас в хате сидит?
Я осторожно, на цыпочках, подошел к кровати с тем неловким, виноватым сознанием
своего здоровья и своей грубости, какое всегда ощущаешь около больного.
– Это я, Олеся, – сказал я, понижая голос. – Я только что приехал верхом из деревни…
А все утро я в городе был… Тебе нехорошо, Олеся?
Она, не отнимая лица от подушек, протянула назад обнаженную руку, точно ища
чего-то в воздухе. Я понял это движение и взял ее горячую руку в свои руки. Два огромных
синих пятна – одно над кистью, а другое повыше локтя – резко выделялись на белой нежной
коже.
– Голубчик мой, – заговорила Олеся, медленно, с трудом отделяя одно слово от
другого. – Хочется мне… на тебя посмотреть… да не могу я… Всю меня… изуродовали…
Помнишь… тебе… мое лицо так нравилось?.. Правда, ведь нравилось, родной?.. И я так
этому всегда радовалась… А теперь тебе противно будет… смотреть на меня… Ну, вот…
я… и не хочу…
– Олеся, прости меня, – шепнул я, наклоняясь к самому ее уху.
Ее пылающая рука крепко и долго сжимала мою.
– Да что ты!.. Что ты, милый?.. Как тебе не стыдно и думать об этом? Чем же ты
виноват здесь? Все я одна, глупая… Ну, чего я полезла… в самом деле? Нет, солнышко, ты
себя не виновать…
– Олеся, позволь мне… Только обещай сначала, что позволишь…
– Обещаю, голубчик… все, что ты хочешь…
– Позволь мне, пожалуйста, послать за доктором… Прошу тебя! Ну, если хочешь, ты
можешь ничего не исполнять из того, что он прикажет. Но ты хоть для меня согласись,
Олеся.
– Ох, милый… В какую ты меня ловушку поймал! Нет, уж лучше ты позволь мне
своего обещания не держать. Я, если бы и в самом деле была больна, при смерти бы лежала,