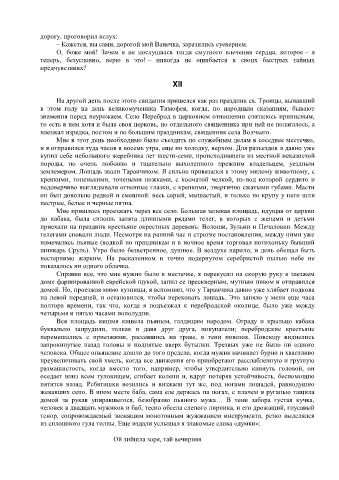Page 33 - Олеся
P. 33
дорогу, проговорил вслух:
– Кажется, вы сами, дорогой мой Ванечка, заразились суеверием.
О, боже мой! Зачем я не послушался тогда смутного влечения сердца, которое – я
теперь, безусловно, верю в это! – никогда не ошибается в своих быстрых тайных
предчувствиях?
XII
На другой день после этого свидания пришелся как раз праздник св. Троицы, выпавший
в этом году на день великомученика Тимофея, когда, по народным сказаниям, бывают
знамения перед неурожаем. Село Переброд в церковном отношении считалось приписным,
то есть в нем хотя и была своя церковь, но отдельного священника при ней не полагалось, а
наезжал изредка, постом и по большим праздникам, священник села Волчьего.
Мне в этот день необходимо было съездить по служебным делам в соседнее местечко,
и я отправился туда часов в восемь утра, еще по холодку, верхом. Для разъездов я давно уже
купил себе небольшого жеребчика лет шести-семи, происходившего из местной неказистой
породы, но очень любовно и тщательно выхоленного прежним владельцем, уездным
землемером. Лошадь звали Таранчиком. Я сильно привязался к этому милому животному, с
крепкими, тоненькими, точеными ножками, с косматой челкой, из-под которой сердито и
недоверчиво выглядывали огненные глазки, с крепкими, энергично сжатыми губами. Масти
он был довольно редкой и смешной: весь серый, мышастый, и только по крупу у него шли
пестрые, белые и черные пятна.
Мне пришлось проезжать через все село. Большая зеленая площадь, идущая от церкви
до кабака, была сплошь занята длинными рядами телег, в которых с женами и детьми
приехали на праздник крестьяне окрестных деревень: Волоши, Зульни и Печаловки. Между
телегами сновали люди. Несмотря на ранний час и строгие постановления, между ними уже
намечались пьяные (водкой по праздникам и в ночное время торговал потихоньку бывший
шинкарь Сруль). Утро было безветренное, душное. В воздухе парило, и день обещал быть
нестерпимо жарким. На раскаленном и точно подернутом серебристой пылью небе не
показалось ни одного облачка.
Справив все, что мне нужно было в местечке, я перекусил на скорую руку в заезжем
доме фаршированной еврейской щукой, запил ее прескверным, мутным пивом и отправился
домой. Но, проезжая мимо кузницы, я вспомнил, что у Таранчика давно уже хлябает подкова
на левой передней, и остановился, чтобы перековать лошадь. Это заняло у меня еще часа
полтора времени, так что, когда я подъезжал к перебродской околице, было уже между
четырьмя и пятью часами пополудни.
Вся площадь кишмя кишела пьяным, галдящим народом. Ограду и крыльцо кабака
буквально запрудили, толкая и давя друг друга, покупатели; перебродские крестьяне
перемешались с приезжими, рассевшись на траве, в тени повозок. Повсюду виднелись
запрокинутые назад головы и поднятые вверх бутылки. Трезвых уже не было ни одного
человека. Общее опьянение дошло до того предела, когда мужик начинает бурно и хвастливо
преувеличивать свой хмель, когда все движения его приобретают расслабленную и грузную
размашистость, когда вместо того, например, чтобы утвердительно кивнуть головой, он
оседает вниз всем туловищем, сгибает колени и, вдруг потеряв устойчивость, беспомощно
пятится назад. Ребятишки возились и визжали тут же, под ногами лошадей, равнодушно
жевавших сено. В ином месте баба, сама еле держась на ногах, с плачем и руганью тащила
домой за рукав упиравшегося, безобразно пьяного мужа… В тени забора густая кучка,
человек в двадцать мужиков и баб, тесно обсела слепого лирника, и его дрожащий, гнусавый
тенор, сопровождаемый звенящим монотонным жужжанием инструмента, резко выделялся
из сплошного гула толпы. Еще издали услышал я знакомые слова «думки»:
Ой зийшла зоря, тай вечирняя