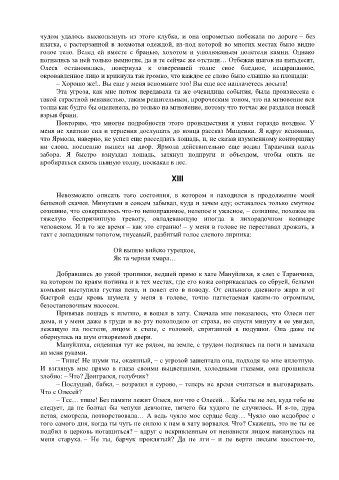Page 36 - Олеся
P. 36
чудом удалось выскользнуть из этого клубка, и она опрометью побежала по дороге – без
платка, с растерзанной в лохмотья одеждой, из-под которой во многих местах было видно
голое тело. Вслед ей вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем полетели камни. Однако
погнались за ней только немногие, да и те сейчас же отстали… Отбежав шагов на пятьдесят,
Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое бледное, исцарапанное,
окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово было слышно на площади:
– Хорошо же!.. Вы еще у меня вспомните это! Вы еще все наплачетесь досыта!
Эта угроза, как мне потом передавала та же очевидица события, была произнесена с
такой страстной ненавистью, таким решительным, пророческим тоном, что на мгновение вся
толпа как будто бы оцепенела, но только на мгновение, потому что тотчас же раздался новый
взрыв брани.
Повторяю, что многие подробности этого происшествия я узнал гораздо позднее. У
меня не хватило сил и терпения дослушать до конца рассказ Мищенки. Я вдруг вспомнил,
что Ярмола, наверно, не успел еще расседлать лошадь, и, не сказав изумленному конторщику
ни слова, поспешно вышел на двор. Ярмола действительно еще водил Таранчика вдоль
забора. Я быстро взнуздал лошадь, затянул подпруги и объездом, чтобы опять не
пробираться сквозь пьяную толпу, поскакал в лес.
XIII
Невозможно описать того состояния, в котором я находился в продолжение моей
бешеной скачки. Минутами я совсем забывал, куда и зачем еду; оставалось только смутное
сознание, что совершилось что-то непоправимое, нелепое и ужасное, – сознание, похожее на
тяжелую беспричинную тревогу, овладевающую иногда в лихорадочном кошмаре
человеком. И в то же время – как это странно! – у меня в голове не переставал дрожать, в
такт с лошадиным топотом, гнусавый, разбитый голос слепого лирника:
Ой вышло вийско турецкое,
Як та черная хмара…
Добравшись до узкой тропинки, ведшей прямо к хате Мануйлихи, я слез с Таранчика,
на котором по краям потника и в тех местах, где его кожа соприкасалась со сбруей, белыми
комьями выступила густая пена, и повел его в поводу. От сильного дневного жара и от
быстрой езды кровь шумела у меня в голове, точно нагнетаемая каким-то огромным,
безостановочным насосом.
Привязав лошадь к плетню, я вошел в хату. Сначала мне показалось, что Олеси нет
дома, и у меня даже в груди и во рту похолодело от страха, но спустя минуту я ее увидел,
лежащую на постели, лицом к стене, с головой, спрятанной в подушки. Она даже не
обернулась на шум отворяемой двери.
Мануйлиха, сидевшая тут же рядом, на земле, с трудом поднялась на ноги и замахала
на меня руками.
– Тише! Не шуми ты, окаянный, – с угрозой зашептала она, подходя ко мне вплотную.
И взглянув мне прямо в глаза своими выцветшими, холодными глазами, она прошипела
злобно: – Что? Доигрался, голубчик?
– Послушай, бабка, – возразил я сурово, – теперь не время считаться и выговаривать.
Что с Олесей?
– Тсс… тише! Без памяти лежит Олеся, вот что с Олесей… Кабы ты не лез, куда тебе не
следует, да не болтал бы чепухи девчонке, ничего бы худого не случилось. И я-то, дура
петая, смотрела, потворствовала… А ведь чуяло мое сердце беду… Чуяло оно недоброе с
того самого дня, когда ты чуть не силою к нам в хату ворвался. Что? Скажешь, это не ты ее
подбил в церковь потащиться? – вдруг с искривленным от ненависти лицом накинулась на
меня старуха. – Не ты, барчук проклятый? Да не лги – и не верти лисьим хвостом-то,