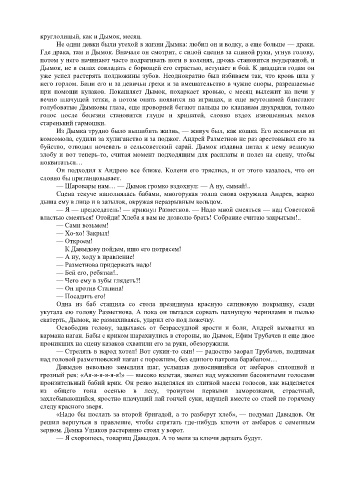Page 144 - Поднятая целина
P. 144
круглолицый, как и Дымок, месяц.
Не одни девки были утехой в жизни Дымка: любил он и водку, а еще больше — драки.
Где драка, там и Дымок. Вначале он смотрит, с силой сцепив за спиной руки, угнув голову,
потом у него начинают часто подрагивать ноги в коленях, дрожь становится неудержной, и
Дымок, не в силах совладать с борющей его страстью, вступает в бой. К двадцати годам он
уже успел растерять полдюжины зубов. Неоднократно был избиваем так, что кровь шла у
него горлом. Били его и за девичьи грехи и за вмешательство в чужие споры, разрешаемые
при помощи кулаков. Покашляет Дымок, похаркает кровью, с месяц вылежит на печи у
вечно плачущей тетки, а потом опять появится на игрищах, и еще неутолимей блистают
голубоватые Дымковы глаза, еще проворней бегают пальцы по клапанам двухрядки, только
голос после болезни становится глуше и хрипатей, словно вздох изношенных мехов
старенький гармошки.
Из Дымка трудно было вышибить жизнь, — живуч был, как кошка. Его исключили из
комсомола, судили за хулиганство и за поджог. Андрей Разметнов не раз арестовывал его за
буйство, отводил ночевать в сельсоветский сарай. Дымок издавна питал к нему великую
злобу и вот теперь-то, считая момент подходящим для расплаты и полез на сцену, чтобы
поквитаться…
Он подходил к Андрею все ближе. Колени его тряслись, и от этого казалось, что он
словно бы пританцовывает.
— Шаровары нам… — Дымок громко вздохнул: — А ну, сымай!..
Сцена текуче наполнялась бабами, многорукая толпа снова окружила Андрея, жарко
дыша ему в лицо и в затылок, окружая неразрывным кольцом.
— Я — председатель! — крикнул Разметнов. — Надо мной смеяться — над Советской
властью смеяться! Отойди! Хлеба я вам не дозволю брать! Собрание считаю закрытым!..
— Сами возьмем!
— Хо-хо! Закрыл!
— Откроем!
— К Давыдову пойдем, ишо его потрясем!
— А ну, ходу в правление!
— Разметнова придержать надо!
— Бей его, ребятки!..
— Чего ему в зубы глядеть?!
— Он против Сталина!
— Посадить его!
Одна из баб стащила со стола президиума красную сатиновую покрышку, сзади
укутала ею голову Разметнова. А пока он пытался сорвать пахнущую чернилами и пылью
скатерть, Дымок, не размахиваясь, ударил его под ложечку.
Освободив голову, задыхаясь от безрассудной ярости и боли, Андрей выхватил из
кармана наган. Бабы с криком шарахнулись в стороны, но Дымок, Ефим Трубачев и еще двое
проникших на сцену казаков схватили его за руки, обезоружили.
— Стрелять в народ хотел! Вот сукин-то сын! — радостно заорал Трубачев, поднимая
над головой разметновский наган с порожним, без единого патрона барабаном…
Давыдов невольно замедлил шаг, услышав доносившийся от амбаров сплошной и
грозный рев: «Ая-я-я-я-я-я!» — высоко взлетая, звенел над мужскими басовитыми голосами
пронзительный бабий крик. Он резко выделялся из слитной массы голосов, как выделяется
из общего гона осенью в лесу, тронутом первыми заморозками, страстный,
захлебывающийся, яростно плачущий лай гончей суки, идущей вместе со стаей по горячему
следу красного зверя.
«Надо бы послать за второй бригадой, а то разберут хлеб», — подумал Давыдов. Он
решил вернуться в правление, чтобы спрятать где-нибудь ключи от амбаров с семенным
зерном. Демка Ушаков растерянно стоял у ворот.
— Я схоронюсь, товарищ Давыдов. А то меня за ключи дерзать будут.