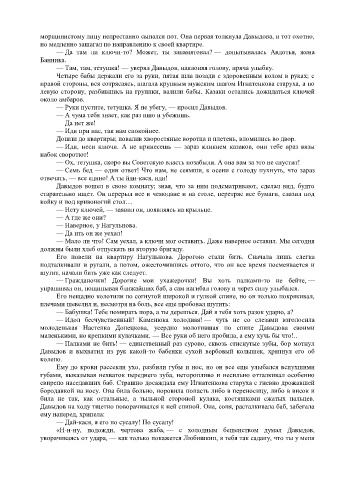Page 147 - Поднятая целина
P. 147
морщинистому лицу непрестанно сыпался пот. Она первая толкнула Давыдова, и тот охотно,
но медленно зашагал по направлению к своей квартире.
— Да там ли ключи-то? Может, ты запамятовал? — допытывалась Авдотья, жена
Банника.
— Там, там, тетушка! — уверял Давыдов, наклоняя голову, пряча улыбку.
Четыре бабы держали его за руки, пятая шла позади с здоровенным колом в руках; с
правой стороны, вся сотрясаясь, шагала крупным мужским шагом Игнатенкова старуха, а по
левую сторону, разбившись на группки, валили бабы. Казаки остались дожидаться ключей
около амбаров.
— Руки пустите, тетушка. Я не убегу, — просил Давыдов.
— А чума тебя знает, как раз ишо и убежишь.
— Да нет же!
— Иди при нас, так нам спокойнее.
Дошли до квартиры; повалив хворостяные воротца и плетень, вломились во двор.
— Иди, неси ключи. А не принесешь — зараз кликнем казаков, они тебе враз вязы
набок своротют!
— Ох, тетушка, скоро вы Советскую власть позабыли. А она вам за это не спустит!
— Семь бед — один ответ! Что нам, не сеямши, к осени с голоду пухнуть, что зараз
отвечать, — все едино! А ты йди-кася, иди!
Давыдов вошел в свою комнату; зная, что за ним подсматривают, сделал вид, будто
старательно ищет. Он перерыл все в чемодане и на столе, перетряс все бумаги, слазил под
койку и под кривоногий стол…
— Нету ключей, — заявил он, появляясь на крыльце.
— А где же они?
— Наверное, у Нагульнова.
— Да ить он же уехал!
— Мало ли что! Сам уехал, а ключи мог оставить. Даже наверное оставил. Мы сегодня
должны были хлеб отпускать на вторую бригаду.
Его повели на квартиру Нагульнова. Дорогою стали бить. Сначала лишь слегка
подталкивали и ругали, а потом, ожесточившись оттого, что он все время посмеивается и
шутит, начали бить уже как следует.
— Гражданочки! Дорогие мои ухажерочки! Вы хоть палками-то не бейте, —
упрашивал он, пощипывая ближайших баб, а сам нагибал голову и через силу улыбался.
Его нещадно колотили по согнутой широкой и гулкой спине, но он только покрякивал,
плечами шевелил и, несмотря на боль, все еще пробовал шутить:
— Бабушка! Тебе помирать пора, а ты дерешься. Дай я тебя хоть разок ударю, а?
— Идол бесчувственный! Каменюка холодная! — чуть не со слезами взголосила
молоденькая Настенка Донецкова, усердно молотившая по спине Давыдова своими
маленькими, но крепкими кулачками. — Все руки об него пробила, а ему хучь бы что!..
— Палками не бить! — единственный раз сурово, сквозь стиснутые зубы, бор мотнул
Давыдов и выхватил из рук какой-то бабенки сухой вербовый колышек, хряпнул его об
колено.
Ему до крови рассекли ухо, разбили губы и нос, но он все еще улыбался вспухшими
губами, выказывая нехваток переднего зуба, неторопливо и несильно отталкивал особенно
свирепо наседавших баб. Страшно досаждала ему Игнатенкова старуха с гневно дрожавшей
бородавкой на носу. Она била больно, норовила попасть либо в переносицу, либо в висок и
била не так, как остальные, а тыльной стороной кулака, костяшками сжатых пальцев.
Давыдов на ходу тщетно поворачивался к ней спиной. Она, сопя, расталкивала баб, забегала
ему наперед, хрипела:
— Дай-кася, я его по сусалу! По сусалу!
«Н-н-ну, подожди, чертова жаба, — с холодным бешенством думал Давыдов,
уворачиваясь от удара, — как только покажется Любишкин, я тебя так садану, что ты у меня