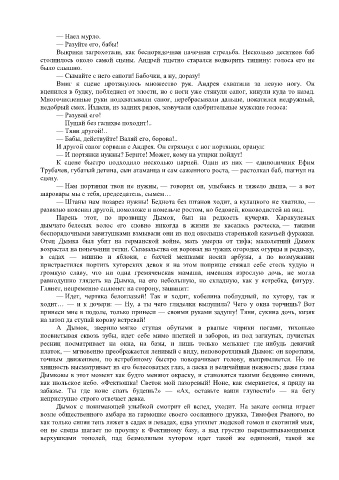Page 143 - Поднятая целина
P. 143
— Наел мурло.
— Разуйте его, бабы!
Выкрики загрохотали, как беспорядочная пачечная стрельба. Несколько десятков баб
столпилось около самой сцены. Андрей тщетно старался водворить тишину: голоса его не
было слышно.
— Сымайте с него сапоги! Бабочки, а ну, доразу!
Вмиг к сцене протянулось множество рук. Андрея схватили за левую ногу. Он
вцепился в будку, побледнел от злости, но с ноги уже стянули сапог, кинули куда-то назад.
Многочисленные руки подхватывали сапог, перебрасывали дальше, покатился недружный,
недобрый смех. Издали, из задних рядов, зазвучали одобрительные мужские голоса:
— Разувай его!
— Пущай без галихве походит!..
— Тяни другой!..
— Бабы, действуйте! Валяй его, борова!..
И другой сапог сорвали с Андрея. Он стряхнул с ног портянки, оранул:
— И портянки нужны? Берите! Может, кому на утирки пойдут!
К сцене быстро подходило несколько парней. Один из них — единоличник Ефим
Трубачев, губатый детина, сын атаманца и сам саженного роста, — растолкал баб, шагнул на
сцену.
— Нам портянки твои не нужны, — говорил он, улыбаясь и тяжело дыша, — а вот
шаровары мы с тебя, председатель, сымем…
— Штаны нам позарез нужны! Беднота без штанов ходит, а кулацкого не хватило, —
развязно пояснил другой, помоложе и помельче ростом, но бедовей, коноводистей на вид.
Парень этот, по прозвищу Дымок, был на редкость кучеряв. Каракулевых
дымчато-белесых волос его словно никогда в жизни не касалась расческа, — такими
беспорядочными завитушками взмывали они из-под околыша старенькой казачьей фуражки.
Отец Дымка был убит на германской войне, мать умерла от тифа; малолетний Дымок
возрастал на попечении тетки. Сызмальства он воровал на чужих огородах огурцы и редиску,
в садах — вишню и яблоки, с бахчей мешками носил арбузы, а по возмужании
пристрастился портить хуторских девок и на этом поприще стяжал себе столь худую и
громкую славу, что ни одна гремяченская мамаша, имевшая взрослую дочь, не могла
равнодушно глядеть на Дымка, на его небольшую, но складную, как у ястребка, фигуру.
Глянет, непременно сплюнет на сторону, зашипит:
— Идет, чертяка белоглазый! Так и ходит, кобелина поблудный, по хутору, так и
ходит… — и к дочери: — Ну, а ты чего гляделки вылупила? Чего у окна торчишь? Вот
принеси мне в подоле, только принеси — своими руками задушу! Тяни, сукина дочь, кизяк
на затоп да ступай корову встревай!
А Дымок, зверино-мягко ступая обутыми в рваные чирики ногами, тихонько
посвистывая сквозь зубы, идет себе мимо плетней и заборов, из-под загнутых, лучистых
ресниц посматривает на окна, на базы, и лишь только мелькнет где-нибудь девичий
платок, — мгновенно преображается ленивый с виду, неповоротливый Дымок: он коротким,
точным движением, по-ястребиному быстро поворачивает голову, выпрямляется. Но не
хищность высматривает из его белесоватых глаз, а ласка и величайшая нежность; даже глаза
Дымковы в этот момент как будто меняют окраску, и становятся такими бездонно-синими,
как июльское небо. «Фектюшка! Светок мой лазоревый! Ноне, как смеркнется, я приду на
забазье. Ты где ноне спать будешь?» — «Ах, оставьте ваши глупости!» — на бегу
неприступно-строго отвечает девка.
Дымок с понимающей улыбкой смотрит ей вслед, уходит. На закате солнца играет
возле общественного амбара на гармошке своего сосланного дружка, Тимофея Рваного, но
как только синяя тень ляжет в садах и левадах, едва утихнет людской гомон и скотиний мык,
он не спеша шагает по проулку к Фектиному базу, а над грустно перешептывающимися
верхушками тополей, над безмолвным хутором идет такой же одинокий, такой же