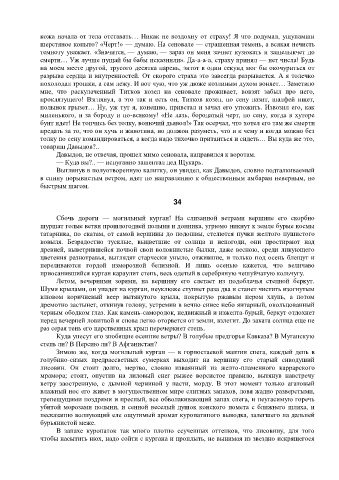Page 150 - Поднятая целина
P. 150
кожа начала от тела отставать… Никак не воздохну от страху! Я что подумал, ущупамши
шерстяное копыто? «Черт!» — думаю. На сеновале — страшенная темень, а всякая нечисть
темноту уважает. «Значится, — думаю, — зараз он меня зачнет кузюкать и защелыкчет до
смерти… Уж лучше пущай бы бабы исказнили». Да-а-а-а, страху принял — нет числа! Будь
на моем месте другой, трусого десятка парень, энтот в один секунд мог бы окочуриться от
разрыва сердца и внутренностей. От скорого страха это завсегда разрывается. А я толечко
похолодал трошки, а сам лежу. И вот чую, что уж дюже козлиным духом воняет… Заметило
мне, что раскулаченный Титков козел на сеновале проживает, вовзят забыл про него,
проклятущего! Взглянул, а это так и есть он, Титков козел, по сену лазит, шалфей ищет,
полынок грызет… Ну, уж тут я, конешно, привстал и зачал его утюжить. Извозил его, как
миленького, и за бороду и по-всякому! «Не лазь, бородатый черт, по сену, когда в хуторе
бунт идет! Не топчись без толку, вонючий дьявол!» Так осерчал, что хотел его там же смерти
предать за то, что он хучь и животина, но должон разуметь, что и к чему и когда можно без
толку по сену командироваться, а когда надо тихочко притаиться и сидеть… Вы куда же это,
товарищ Давыдов?..
Давыдов, не отвечая, прошел мимо сеновала, направился к воротам.
— Куда вы?.. — испуганно зашептал дед Щукарь.
Выглянув в полуотворенную калитку, он увидел, как Давыдов, словно подталкиваемый
в спину порывистым ветром, идет по направлению к общественным амбарам неверным, но
быстрым шагом.
34
Сбочь дороги — могильный курган! На слизанной ветрами вершине его скорбно
шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника, угрюмо никнут к земле бурые космы
татарника, по скатам, от самой вершины до подошвы, стелются пучки желтого пушистого
ковыля. Безрадостно тусклые, выцветшие от солнца и непогоди, они простирают над
древней, выветрившейся почвой свои волокнистые былки, даже весною, среди ликующего
цветения разнотравья, выглядят старчески уныло, отжившие, и только под осень блещут и
переливаются гордой изморозной белизной. И лишь осенью кажется, что величаво
приосанившийся курган караулит степь, весь одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу.
Летом, вечерними зорями, на вершину его слетает из подоблачья степной беркут.
Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить изогнутым
клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом
дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно синее небо янтарный, окольцованный
черным ободком глаз. Как камень-самородок, недвижный и изжелта-бурый, беркут отдохнет
перед вечерней ловитвой и снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не
раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь.
Куда унесут его знобящие осенние ветры? В голубые предгорья Кавказа? В Муганскую
степь ли? В Персию ли? В Афганистан?
Зимою же, когда могильный курган — в горностаевой мантии снега, каждый день в
голубино-сизых предрассветных сумерках выходит на вершину его старый сиводуший
лисовин. Он стоит долго, мертво, словно изваянный из желто-пламенного каррарского
мрамора; стоит, опустив на лиловый снег рыжее ворсистое правило, вытянув навстречу
ветру заостренную, с дымной черниной у пасти, морду. В этот момент только агатовый
влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов, ловя жадно разверстыми,
трепещущими ноздрями и пресный, все обволакивающий запах снега, и неугасимую горечь
убитой морозами полыни, и сенной веселый душок конского помета с ближнего шляха, и
несказанно волнующий еле ощутимый аромат куропатиного выводка, залегшего на дальней
бурьянистой меже.
В запахе куропаток так много плотно ссученных оттенков, что лисовину, для того
чтобы насытить нюх, надо сойти с кургана и проплыть, не вынимая из звездно искрящегося