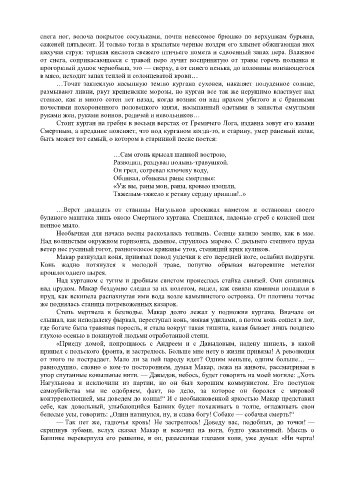Page 151 - Поднятая целина
P. 151
снега ног, волоча покрытое сосульками, почти невесомое брюшко по верхушкам бурьяна,
саженей пятьдесят. И только тогда в крылатые черные ноздри его хлынет обжигающая нюх
пахучая струя: терпкая кислота свежего птичьего помета и сдвоенный запах пера. Влажное
от снега, соприкасающееся с травой перо лучит воспринятую от травы горечь полынка и
прогорклый душок чернобыла, это — сверху, а от синего пенька, до половины вонзающегося
в мясо, исходит запах теплой и солонцеватой крови…
…Точат заклеклую насыпную землю кургана суховеи, накаляет полуденное солнце,
размывают ливни, рвут крещенские морозы, но курган все так же нерушимо властвует над
степью, как и много сотен лет назад, когда возник он над прахом убитого и с бранными
почестями похороненного половецкого князя, насыпанный одетыми в запястья смуглыми
руками жен, руками воинов, родичей и невольников…
Стоит курган на гребне в восьми верстах от Гремячего Лога, издавна зовут его казаки
Смертным, а предание поясняет, что под курганом когда-то, в старину, умер раненый казак,
быть может тот самый, о котором в старинной песне поется:
…Сам огонь крысал шашкой вострою,
Разводил, раздувал полынь-травушкой.
Он грел, согревал ключеву воду,
Обливал, обмывал раны смертные:
«Уж вы, раны мои, раны, кровью изошли,
Тяжелым-тяжело к ретиву сердцу пришли!..»
…Верст двадцать от станицы Нагульнов проскакал наметом и остановил своего
буланого маштака лишь около Смертного кургана. Спешился, ладонью сгреб с конской шеи
пенное мыло.
Необычная для начала весны раскохалась теплынь. Солнце калило землю, как в мае.
Над волнистым окружном горизонта, дымное, струилось марево. С дальнего степного пруда
ветер нес гусиный гогот, разноголосое кряканье уток, стенящий крик куликов.
Макар разнуздал коня, привязал повод уздечки к его передней ноге, ослабил подпруги.
Конь жадно потянулся к молодой траве, попутно обрывая выгоревшие метелки
прошлогоднего пырея.
Над курганом с тугим и дробным свистом пронеслась стайка свиязей. Они снизились
над прудом. Макар бездумно следил за их полетом, видел, как свиязи камнями попадали в
пруд, как вскипела распахнутая ими вода возле камышистого островка. От плотины тотчас
же поднялась станица потревоженных казарок.
Степь мертвела в безлюдье. Макар долго лежал у подножия кургана. Вначале он
слышал, как неподалеку фыркал, переступал конь, звякая удилами, а потом конь сошел в лог,
где богаче была травяная поросль, и стала вокруг такая тишина, какая бывает лишь позднею
глухою осенью в покинутой людьми отработанной степи.
«Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и с Давыдовым, надену шинель, в какой
пришел с польского фронта, и застрелюсь. Больше мне нету в жизни привязы! А революция
от этого не пострадает. Мало ли за ней народу идет? Одним меньше, одним больше… —
равнодушно, словно о ком-то постороннем, думал Макар, лежа на животе, рассматривая в
упор спутанные ковыльные нити. — Давыдов, небось, будет говорить на моей могиле: „Хоть
Нагульнова и исключили из партии, но он был хорошим коммунистом. Его поступок
самоубийства мы не одобряем, факт, но дело, за которое он боролся с мировой
контрреволюцией, мы доведем до конца!“ И с необыкновенной яркостью Макар представил
себе, как довольный, улыбающийся Банник будет похаживать в толпе, оглаживать свои
белесые усы, говорить: „Один натянулся, ну, и слава богу! Собаке — собачья смерть!“
— Так нет же, гадючья кровь! Не застрелюсь! Доведу вас, подобных, до точки! —
скрипнув зубами, вслух сказал Макар и вскочил на ноги, будто ужаленный. Мысль о
Баннике перевернула его решение, и он, разыскивая глазами коня, уже думал: «Ни черта!