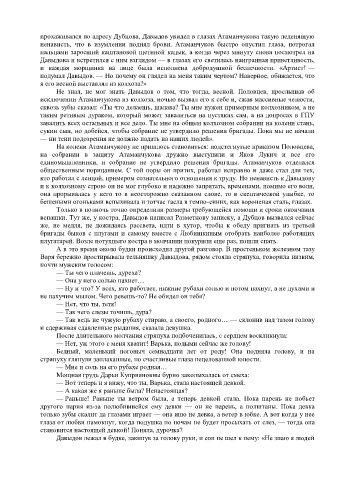Page 222 - Поднятая целина
P. 222
прохаживался по адресу Дубцова, Давыдов увидел в глазах Атаманчукова такую леденящую
ненависть, что в изумлении поднял брови. Атаманчуков быстро опустил глаза, потрогал
пальцами заросший каштановой щетиной кадык, а когда через минуту снова посмотрел на
Давыдова и встретился с ним взглядом — в глазах его светилась наигранная приветливость,
и каждая морщинка на лице была исполнена добродушной беспечности. «Артист! —
подумал Давыдов. — Но почему он глядел на меня таким чертом? Наверное, обижается, что
я его весной выставлял из колхоза?»
Не знал, не мог знать Давыдов о том, что тогда, весной. Половцев, прослышав об
исключении Атаманчукова из колхоза, ночью вызвал его к себе и, сжав массивные челюсти,
сквозь зубы сказал: «Ты что делаешь, шалава? Ты мне нужен примерным колхозником, а не
таким ретивым дураком, который может завалиться на пустяках сам, а на допросах в ГПУ
завалить всех остальных и все дело. Ты мне на общем колхозном собрании на колени стань,
сукин сын, но добейся, чтобы собрание не утвердило решения бригады. Пока мы не начали
— ни тени подозрения не должно падать на наших людей».
На колени Атаманчукову не пришлось становиться: подстегнутые приказом Половцева,
на собрании в защиту Атаманчукова дружно выступили и Яков Лукич и все его
единомышленники, и собрание не утвердило решения бригады. Атаманчуков отделался
общественным порицанием. С той поры он притих, работал исправно и даже стал для тех,
кто работал с ленцой, примером сознательного отношения к труду. Но ненависть к Давыдову
и к колхозному строю он не мог глубоко и надежно запрятать, временами, помимо его воли,
она прорывалась у него то в неосторожно сказанном слове, то в скептической улыбке, то
бешеными огоньками вспыхивала и тотчас гасла в темно-синих, как вороненая сталь, глазах.
Только в полночь точно определили размеры требующейся помощи и сроки окончания
вспашки. Тут же, у костра, Давыдов написал Разметнову записку, а Дубцов вызвался сейчас
же, не медля, не дожидаясь рассвета, идти в хутор, чтобы к обеду пригнать из третьей
бригады быков с плугами и самому вместе с Любишкиным отобрать наиболее работящих
плугатарей. Возле потухшего костра в молчании покурили еще раз, пошли спать.
А в это время около будки происходил другой разговор. В простеньком железном тазу
Варя бережно простирывала тельняшку Давыдова, рядом стояла стряпуха, говорила низким,
почти мужским голосом:
— Ты чего плачешь, дуреха?
— Она у него солью пахнет…
— Ну и что? У всех, кто работает, нижние рубахи солью и потом пахнут, а не духами и
не пахучим мылом. Чего ревешь-то? Не обидел он тебя?
— Нет, что ты, тетя!
— Так чего слезы точишь, дура?
— Так ведь не чужую рубаху стираю, а своего, родного… — склонив над тазом голову
и сдерживая сдавленные рыдания, сказала девушка.
После длительного молчания стряпуха подбоченилась, с сердцем воскликнула:
— Нет, уж этого с меня хватит! Варька, подыми сейчас же голову!
Бедный, маленький погоныч семнадцати лет от роду! Она подняла голову, и на
стряпуху глянули заплаканные, но счастливые глаза нецелованной юности.
— Мне и соль на его рубахе родная…
Мощная грудь Дарьи Куприяновны бурно заколыхалась от смеха:
— Вот теперь и я вижу, что ты, Варька, стала настоящей девкой.
— А какая же я раньше была? Ненастоящая?
— Раньше! Раньше ты ветром была, а теперь девкой стала. Пока парень не побьет
другого парня из-за полюбившейся ему девки — он не парень, а полштаны. Пока девка
только зубы скалит да глазами играет — она ишо не девка, а ветер в юбке. А вот когда у нее
глаза от любви намокнут, когда подушка по ночам не будет просыхать от слез, — тогда она
становится настоящей девкой! Поняла, дурочка?
Давыдов лежал в будке, закинув за голову руки, и сон не шел к нему: «Не знаю я людей