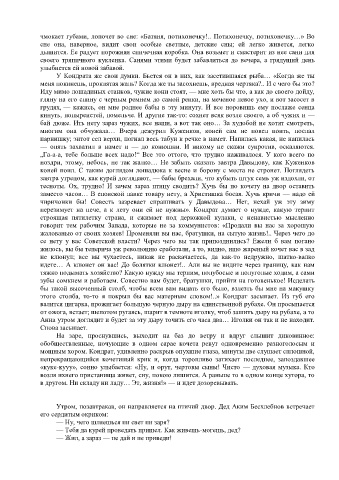Page 74 - Поднятая целина
P. 74
чмокает губами, лопочет во сне: «Батяня, потихонечку!.. Потихонечку, потихонечку…» Во
сне она, наверное, видит свои особые светлые, детские сны; ей легко живется, легко
дышится. Ее радует порожняя спичечная коробка. Она возьмет и смастерит из нее сани для
своего тряпичного кукленка. Санями этими будет забавляться до вечера, а грядущий день
улыбнется ей новой забавой.
У Кондрата же свои думки. Бьется он в них, как засетившаяся рыба… «Когда же ты
меня покинешь, проклятая жаль? Когда же ты засохнешь, вредная чертяка?.. И с чего бы это?
Иду мимо лошадиных станков, чужие кони стоят, — мне хоть бы что, а как до своего дойду,
гляну на его спину с черным ремнем до самой репки, на меченое левое ухо, и вот засосет в
грудях, — кажись, он мне роднее бабы в эту минуту. И все норовишь ему послаже сенца
кинуть, попыреистей, помельче. И другие так-то: сохнет всяк возле своего, а об чужих и —
бай дюже. Ить нету зараз чужих, все наши, а вот так оно… За худобой не хотят смотреть,
многим она обчужала… Вчера дежурил Куженков, коней сам не повел поить, послал
парнишку; энтот сел верхи, погнал весь табун к речке в намет. Напилась какая, не напилась
— опять захватил в намет и — до конюшни. И никому не скажи супротив, оскаляются.
„Га-а-а, тебе больше всех надо!“ Все это оттого, что трудно наживалося. У кого всего по
ноздри, этому, небось, не так жалко… Не забыть сказать завтра Давыдову, как Куженков
коней поил. С таким доглядом лошадюка к весне и борону с места не стронет. Поглядеть
завтра утрецом, как курей доглядают, — бабы брехали, что кубыть штук семь уж издохли, от
тесноты. Ох, трудно! И зачем зараз птицу сводить? Хучь бы по кочету на двор оставить
заместо часов… В еповской лавке товару нету, а Христишка босая. Хучь кричи — надо ей
чиричонки бы! Совесть зазревает спрашивать у Давыдова… Нет, нехай уж эту зиму
перезимует на пече, а к лету они ей не нужны». Кондрат думает о нужде, какую терпит
строящая пятилетку страна, и сжимает под дерюжкой кулаки, с ненавистью мысленно
говорит тем рабочим Запада, которые не за коммунистов: «Продали вы нас за хорошую
жалованью от своих хозяев! Променяли вы нас, братушки, на сытую жизнь!.. Через чего до
се нету у вас Советской власти? Через чего вы так припозднились? Ежели б вам погано
жилось, вы бы теперича уж революцию сработали, а то, видно, ишо жареный кочет вас в зад
не клюнул; все вы чухаетесь, никак не раскачаетесь, да как-то недружно, шатко-валко
идете… А клюнет он вас! До болятки клюнет!.. Али вы не видите через границу, как нам
тяжко подымать хозяйство? Какую нужду мы терпим, полубосые и полуголые ходим, а сами
зубы сомкнем и работаем. Совестно вам будет, братушки, прийти на готовенькое! Исделать
бы такой высоченный столб, чтобы всем вам видать его было, взлезть бы мне на макушку
этого столба, то-то я покрыл бы вас матерным словом!..» Кондрат засыпает. Из губ его
валится цигарка, прожигает большую черную дыру на единственной рубахе. Он просыпается
от ожога, встает; шепотом ругаясь, шарит в темноте иголку, чтоб зашить дыру на рубахе, а то
Анна утром доглядит и будет за эту дыру точить его часа два… Иголки он так и не находит.
Снова засыпает.
На заре, проснувшись, выходит на баз до ветру и вдруг слышит диковинное:
обобществленные, ночующие в одном сарае кочета ревут одновременно разноголосым и
мощным хором. Кондрат, удивленно раскрыв опухшие глаза, минуты две слушает сплошной,
непрекращающийся кочетиный крик и, когда торопливо затихает последнее, запоздавшее
«куке-кууу», сонно улыбается: «Ну, и орут, чертовы сыны! Чисто — духовая музыка. Кто
возля ихнего пристанища живет, сну, покою лишится. А раньше то в одном конце хутора, то
в другом. Ни складу ни ладу… Эт, жизня!» — и идет дозоревывать.
Утром, позавтракав, он направляется на птичий двор. Дед Аким Бесхлебнов встречает
его сердитым окриком:
— Ну, чего шляешься ни свет ни заря?
— Тебя да курей проведать пришел. Как живешь-могешь, дед?
— Жил, а зараз — не дай и не приведи!