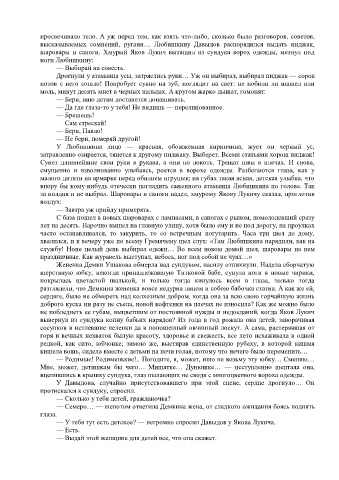Page 70 - Поднятая целина
P. 70
просвечивало тело. А уж перед тем, как взять что-либо, сколько было разговоров, советов,
высказываемых сомнений, ругани… Любишкину Давыдов распорядился выдать пиджак,
шаровары и сапоги. Хмурый Яков Лукич вытащил из сундука ворох одежды, метнул под
ноги Любишкину:
— Выбирай на совесть.
Дрогнули у атаманца усы, затряслись руки… Уж он выбирал, выбирал пиджак — сорок
потов с него сошло! Попробует сукно на зуб, поглядит на свет: не побили ли шашел или
моль, минут десять мнет в черных пальцах. А кругом жарко дышат, гомонят:
— Бери, ишо детям достанется донашивать.
— Да где глаза-то у тебя! Не видишь — перелицованное.
— Брешешь!
— Сам стрескай!
— Бери, Павло!
— Не бери, померяй другой!
У Любишкина лицо — красная, обожженная кирпичина, жует он черный ус,
затравленно озирается, тянется к другому пиджаку. Выберет. Всеми статьями хорош пиджак!
Сунет длиннейшие свои руки в рукава, а они по локоть. Трещат швы в плечах. И снова,
смущенно и взволнованно улыбаясь, роется в ворохе одежды. Разбегаются глаза, как у
малого дитяти на ярмарке перед обилием игрушек; на губах такая ясная, детская улыбка, что
впору бы кому-нибудь отечески погладить саженного атаманца Любишкина по голове. Так
за полдня и не выбрал. Шаровары и сапоги надел, хмурому Якову Лукичу сказал, проглотив
воздух:
— Завтра уж прийду примерять.
С база пошел в новых шароварах с лампасами, в сапогах с рыпом, помолодевший сразу
лет на десять. Нарочно вышел на главную улицу, хотя было ему и не под дорогу, на проулках
часто останавливался, то закурить, то со встречным погутарить. Часа три шел до дому,
хвалился, и к вечеру уже по всему Гремячему шел слух: «Там Любишкина нарядили, как на
службу! Ноне целый день выбирал одежи… Во всем новом домой шел, шаровары на нем
праздничные. Как журавель выступал, небось, ног под собой не чуял…»
Жененка Демки Ушакова обмерла над сундуком, насилу отпихнули. Надела сборчатую
шерстяную юбку, некогда принадлежавшую Титковой бабе, сунула ноги в новые чирики,
покрылась цветастой шалькой, и только тогда кинулось всем в глаза, только тогда
разглядели, что Демкина жененка вовсе недурна лицом и собою бабочка статна. А как же ей,
сердяге, было не обмереть над колхозным добром, когда она за всю свою горчайшую жизнь
доброго куска ни разу не съела, новой кофтенки на плечах не износила? Как же можно было
не побледнеть ее губам, выцветшим от постоянной нужды и недоеданий, когда Яков Лукич
вывернул из сундука копну бабьих нарядов? Из года в год рожала она детей, заворачивая
сосунков в истлевшие пеленки да в поношенный овчинный лоскут. А сама, растерявшая от
горя и вечных нехваток былую красоту, здоровье и свежесть, все лето исхаживала в одной
редкой, как сито, юбчонке; зимою же, выстирав единственную рубаху, в которой кишмя
кишела вошь, сидела вместе с детьми на печи голая, потому что нечего было переменить…
— Родимые! Родименькие!.. Погодите, я, может, ишо не возьму эту юбку… Сменяю…
Мне, может, детишкам бы чего… Мишатке… Дунюшке… — исступленно шептала она,
вцепившись в крышку сундука, глаз пылающих не сводя с многоцветного вороха одежды.
У Давыдова, случайно присутствовавшего при этой сцене, сердце дрогнуло… Он
протискался к сундуку, спросил.
— Сколько у тебя детей, гражданочка?
— Семеро… — шепотом ответила Демкина жена, от сладкого ожидания боясь поднять
глаза.
— У тебя тут есть детское? — негромко спросил Давыдов у Якова Лукича.
— Есть.
— Выдай этой женщине для детей все, что она скажет.