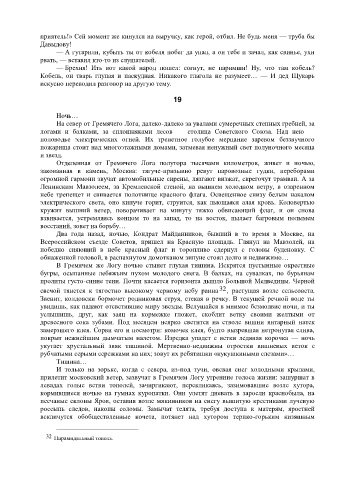Page 72 - Поднятая целина
P. 72
приятель!» Сей момент же кинулся на выручку, как герой, отбил. Не будь меня — труба бы
Давыдову!
— А гутарили, кубыть ты от кобеля побег да упал, а он тебе и зачал, как свинье, ухи
рвать, — вставил кто-то из слушателей.
— Брехня! Ить вот какой народ пошел: согнут, не паримши! Ну, что там кобель?
Кобель, он тварь глупая и паскудная. Никакого глагола не разумеет… — И дед Щукарь
искусно переводил разговор на другую тему.
19
Ночь…
На север от Гремячего Лога, далеко-далеко за увалами сумеречных степных гребней, за
логами и балками, за сплошняками лесов — столица Советского Союза. Над нею —
половодье электрических огней. Их трепетное голубое мерцание заревом беззвучного
пожарища стоит над многоэтажными домами, затмевая ненужный свет полуночного месяца
и звезд.
Отделенная от Гремячего Лога полутора тысячами километров, живет и ночью,
закованная в камень, Москва: тягуче-призывно ревут паровозные гудки, переборами
огромной гармони звучат автомобильные сирены, лязгают визжат, скрегочут трамваи. А за
Ленинским Мавзолеем, за Кремлевской стеной, на вышнем холодном ветру, в озаренном
небе трепещет и свивается полотнище красного флага. Освещенное снизу белым накалом
электрического света, оно кипуче горит, струится, как льющаяся алая кровь. Коловертью
кружит вышний ветер, поворачивает на минуту тяжко обвисающий флаг, и он снова
взвивается, устремляясь концом то на запад, то на восток, пылает багровым полымем
восстаний, зовет на борьбу…
Два года назад, ночью, Кондрат Майданников, бывший в то время в Москве, на
Всероссийском съезде Советов, пришел на Красную площадь. Глянул на Мавзолей, на
победно сияющий в небе красный флаг и торопливо сдернул с головы буденовку. С
обнаженной головой, в распахнутом домотканом зипуне стоял долго и недвижимо…
В Гремячем же Логу ночью стынет глухая тишина. Искрятся пустынные окрестные
бугры, осыпанные лебяжьим пухом молодого снега. В балках, на сувалках, по бурьянам
пролиты густо-синие тени. Почти касается горизонта дышло Большой Медведицы. Черной
свечой тянется к тягостно высокому черному небу раина 32 , растущая возле сельсовета.
Звенит, колдовски бормочет родниковая струя, стекая в речку. В текущей речной воде ты
увидишь, как падают отсветившие миру звезды. Вслушайся в мнимое безмолвие ночи, и ты
услышишь, друг, как заяц на кормежке гложет, скоблит ветку своими желтыми от
древесного сока зубами. Под месяцем неярко светится на стволе вишни янтарный натек
замерзшего клея. Сорви его и посмотри: комочек клея, будто вызревшая нетронутая слива,
покрыт нежнейшим дымчатым налетом. Изредка упадет с ветки ледяная корочка — ночь
укутает хрустальный звяк тишиной. Мертвенно-недвижны отростки вишневых веток с
рубчатыми серыми сережками на них; зовут их ребятишки «кукушкиными слезами»…
Тишина…
И только на зорьке, когда с севера, из-под тучи, овевая снег холодными крылами,
прилетит московский ветер, зазвучат в Гремячем Логу утренние голоса жизни: зашуршат в
левадах голые ветви тополей, зачиргикают, перекликаясь, зазимовавшие возле хутора,
кормившиеся ночью на гумнах куропатки. Они улетят дневать в заросли краснобыла, на
песчаные склоны Яров, оставив возле мякинников на снегу вышитую крестиками лучевую
россыпь следов, накопы соломы. Замычат телята, требуя доступа к матерям, яростней
вскличутся обобществленные кочета, потянет над хутором терпко-горьким кизяшным
32 Пирамидальный тополь.