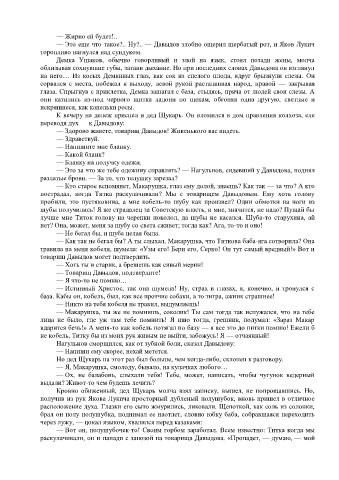Page 71 - Поднятая целина
P. 71
— Жирно ей будет!..
— Это еще что такое?.. Ну?.. — Давыдов злобно ощерил щербатый рот, и Яков Лукич
торопливо нагнулся над сундуком.
Демка Ушаков, обычно говорливый и злой на язык, стоял позади жены, молча
облизывая сохнувшие губы, затаив дыхание. Но при последних словах Давыдова он взглянул
на него… Из косых Демкиных глаз, как сок из спелого плода, вдруг брызнули слезы. Он
сорвался с места, побежал к выходу, левой рукой расталкивая народ, правой — закрывая
глаза. Спрыгнув с приклетка, Демка зашагал с база, стыдясь, пряча от людей свои слезы. А
они катились из-под черного щитка ладони по щекам, обгоняя одна другую, светлые и
искрящиеся, как капельки росы.
К вечеру на дележ приспел и дед Щукарь. Он вломился в дом правления колхоза, еле
переводя дух — к Давыдову:
— Здорово живете, товарищ Давыдов! Живенького вас видеть.
— Здравствуй.
— Напишите мне бланку.
— Какой бланк?
— Бланку на получку одежи.
— Это за что же тебе одежину справлять? — Нагульнов, сидевший у Давыдова, поднял
разлатые брови. — За то, что телушку зарезал?
— Кто старое вспомянет, Макарушка, глаз ему долой, знаешь? Как так — за что? А кто
пострадал, когда Титка раскулачивали? Мы с товарищем Давыдовым. Ему хоть голову
пробили, это пустяковина, а мне кобель-то шубу как произвел? Одни обмотки на ноги из
шубы получились! Я же страдалец за Советскую власть, и мне, значится, не надо? Пущай бы
лучше мне Титок голову на черепки поколол, да шубы не касался. Шуба-то старухина, ай
нет? Она, может, меня за шубу со света сживет; тогда как? Ага, то-то и оно!
— Не бегал бы, и шуба целая была.
— Как так не бегал бы? А ты слыхал, Макарушка, что Титкова баба-яга сотворила? Она
травила на меня кобеля, шумела: «Узы его! Бери его, Серко! Он тут самый вредный!» Вот и
товарищ Давыдов могет подтвердить.
— Хоть ты и старик, а брешешь как сивый мерин!
— Товарищ Давыдов, подтвердите!
— Я что-то не помню…
— Истинный Христос, так она шумела! Ну, страх в глазах, я, конечно, и тронулся с
база. Кабы он, кобель, был, как все протчие собаки, а то тигра, ажник страшнее!
— Никто на тебя кобеля не травил, выдумляешь!
— Макарушка, ты же не помнишь, соколик! Ты сам тогда так испужался, что на тебе
лица не было, где уж там тебе помнить! Я ишо тогда, грешник, подумал: «Зараз Макар
вдарится бечь!» А меня-то как кобель потягал по базу — я все это до нитки помню! Ежели б
не кобель, Титку бы из моих рук живым не выйти, забожусь! Я — отчаянный!
Нагульнов сморщился, как от зубной боли, сказал Давыдову:
— Напиши ему скорее, нехай метется.
Но дед Щукарь на этот раз был больше, чем когда-либо, склонен к разговору.
— Я, Макарушка, смолоду, бывало, на кулачках любого…
— Ох, не балабонь, слыхали тебя! Тебе, может, написать, чтобы чугунок ведерный
выдали? Живот-то чем будешь лечить?
Кровно обиженный, дед Щукарь молча взял записку, вышел, не попрощавшись. Но,
получив из рук Якова Лукича просторный дубленый полушубок, вновь пришел в отличное
расположение духа. Глазки его сыто жмурились, ликовали. Щепоткой, как соль из солонки,
брал он полу полушубка, поднимал ее наотлет, словно юбку баба, собравшаяся переходить
через лужу, — цокал языком, хвалился перед казаками:
— Вот он, полушубочек-то! Своим горбом заработал. Всем известно: Титка когда мы
раскулачивали, он и напади с занозой на товарища Давыдова. «Пропадет, — думаю, — мой