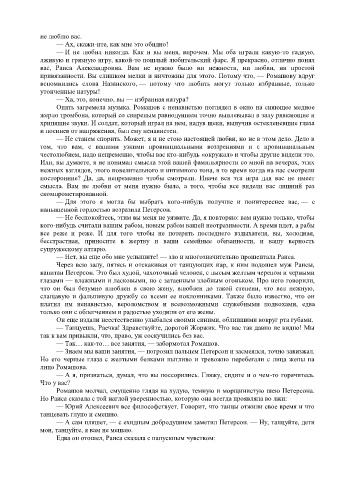Page 51 - Поединок
P. 51
не люблю вас.
— Ах, скажи-ите, как мне это обидно!
— И не любил никогда. Как и вы меня, впрочем. Мы оба играли какую-то гадкую,
лживую и грязную игру, какой-то пошлый любительский фарс. Я прекрасно, отлично понял
вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой
привязанности. Вы слишком мелки и ничтожны для этого. Потому что, — Ромашову вдруг
вспомнились слова Назанского, — потому что любить могут только избранные, только
утонченные натуры!
— Ха, это, конечно, вы — избранная натура?
Опять загремела музыка. Ромашов с ненавистью поглядел в окно на сияющее медное
жерло тромбона, который со свирепым равнодушием точно выплевывал в залу рявкающие и
хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем, надув щеки, выпучив остекленевшие глаза
и посинев от напряжения, был ему ненавистен.
— Не станем спорить. Может, я и не стою настоящей любви, но не в этом дело. Дело в
том, что вам, с вашими узкими провинциальными воззрениями и с провинциальным
честолюбием, надо непременно, чтобы вас кто-нибудь «окружал» и чтобы другие видели это.
Или, вы думаете, я не понимал смысла этой вашей фамильярности со мной на вечерах, этих
нежных взглядов, этого повелительного и интимного тона, в то время когда на нас смотрели
посторонние? Да, да, непременно чтобы смотрели. Иначе вся эта игра для вас не имеет
смысла. Вам не любви от меня нужно было, а того, чтобы все видели вас лишний раз
скомпрометированной.
— Для этого я могла бы выбрать кого-нибудь получше и поинтереснее вас, — с
напыщенной гордостью возразила Петерсон.
— Не беспокойтесь, этим вы меня не уязвите. Да, я повторяю: вам нужно только, чтобы
кого-нибудь считали вашим рабом, новым рабом вашей неотразимости. А время идет, а рабы
все реже и реже. И для того чтобы не потерять последнего вздыхателя, вы, холодная,
бесстрастная, приносите в жертву и ваши семейные обязанности, и вашу верность
супружескому алтарю.
— Нет, вы еще обо мне услышите! — зло и многозначительно прошептала Раиса.
Через всю залу, пятясь и отскакивая от танцующих пар, к ним подошел муж Раисы,
капитан Петерсон. Это был худой, чахоточный человек, с лысым желтым черепом и черными
глазами — влажными и ласковыми, но с затаенным злобным огоньком. Про него говорили,
что он был безумно влюблен в свою жену, влюблен до такой степени, что вел нежную,
слащавую и фальшивую дружбу со всеми ее поклонниками. Также было известно, что он
платил им ненавистью, вероломством и всевозможными служебными подвохами, едва
только они с облегчением и радостью уходили от его жены.
Он еще издали неестественно улыбался своими синими, облипшими вокруг рта губами.
— Танцуешь, Раечка! Здравствуйте, дорогой Жоржик. Что вас так давно не видно! Мы
так к вам привыкли, что, право, уж соскучились без вас.
— Так… как-то… все занятия, — забормотал Ромашов.
— Знаем мы ваши занятия, — погрозил пальцем Петерсон и засмеялся, точно завизжал.
Но его черные глаза с желтыми белками пытливо и тревожно перебегали с лица жены на
лицо Ромашова.
— А я, признаться, думал, что вы поссорились. Гляжу, сидите и о чем-то горячитесь.
Что у вас?
Ромашов молчал, смущенно глядя на худую, темную и морщинистую шею Петерсона.
Но Раиса сказала с той наглой уверенностью, которую она всегда проявляла во лжи:
— Юрий Алексеевич все философствует. Говорит, что танцы отжили свое время и что
танцевать глупо и смешно.
— А сам пляшет, — с ехидным добродушием заметил Петерсон. — Ну, танцуйте, дети
мои, танцуйте, я вам не мешаю.
Едва он отошел, Раиса сказала с напускным чувством: