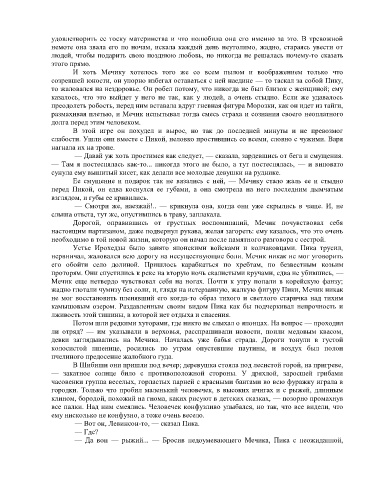Page 34 - Разгром
P. 34
удовлетворить ее тоску материнства и что полюбила она его именно за это. В тревожной
немоте она звала его по ночам, искала каждый день неутолимо, жадно, стараясь увести от
людей, чтобы подарить свою позднюю любовь, но никогда не решалась почему-то сказать
этого прямо.
И хоть Мечику хотелось того же со всем пылом и воображением только что
созревшей юности, он упорно избегал оставаться с ней наедине — то таскал за собой Пику,
то жаловался на нездоровье. Он робел потому, что никогда не был близок с женщиной; ему
казалось, что это выйдет у него не так, как у людей, а очень стыдно. Если же удавалось
преодолеть робость, перед ним вставала вдруг гневная фигура Морозки, как он идет из тайги,
размахивая плетью, и Мечик испытывал тогда смесь страха и сознания своего неоплатного
долга перед этим человеком.
В этой игре он похудел и вырос, но так до последней минуты и не превозмог
слабости. Ушли они вместе с Пикой, неловко простившись со всеми, словно с чужими. Варя
нагнала их на тропе.
— Давай уж хоть простимся как следует, — сказала, зардевшись от бега и смущения.
— Там я постеснялась как-то... никогда этого не было, а тут постеснялась, — и виновато
сунула ему вышитый кисет, как делали все молодые девушки на руднике.
Ее смущение и подарок так не вязались с ней, — Мечику стало жаль ее и стыдно
перед Пикой, он едва коснулся ее губами, а она смотрела на него последним дымчатым
взглядом, и губы ее кривились.
— Смотри же, наезжай!.. — крикнула она, когда они уже скрылись в чаще. И, не
слыша ответа, тут же, опустившись в траву, заплакала.
Дорогой, оправившись от грустных воспоминаний, Мечик почувствовал себя
настоящим партизаном, даже подвернул рукава, желая загореть: ему казалось, что это очень
необходимо в той новой жизни, которую он начал после памятного разговора с сестрой.
Устье Ирохедзы было занято японскими войсками и колчаковцами. Пика трусил,
нервничал, жаловался всю дорогу на несуществующие боли. Мечик никак не мог уговорить
его обойти село долиной. Пришлось карабкаться по хребтам, по безвестным козьим
проторям. Они спустились к реке на вторую ночь скалистыми кручами, едва не убившись, —
Мечик еще нетвердо чувствовал себя на ногах. Почти к утру попали в корейскую фанзу;
жадно глотали чумизу без соли, и, глядя на истерзанную, жалкую фигуру Пики, Мечик никак
не мог восстановить пленявший его когда-то образ тихого и светлого старичка над тихим
камышовым озером. Раздавленным своим видом Пика как бы подчеркивал непрочность и
лживость этой тишины, в которой нет отдыха и спасения.
Потом шли редкими хуторами, где никто не слыхал о японцах. На вопрос — проходил
ли отряд? — им указывали в верховья, расспрашивали новости, поили медовым квасом,
девки заглядывались на Мечика. Началась уже бабья страда. Дороги тонули в густой
колосистой пшенице, росились по утрам опустевшие паутины, и воздух был полон
пчелиного предосенне жалобного гуда.
В Шибиши они пришли под вечер; деревушка стояла под лесистой горой, на пригреве,
— закатное солнце било с противоположной стороны. У дряхлой, заросшей грибами
часовенки группа веселых, горластых парней с красными бантами во всю фуражку играла в
городки. Только что пробил маленький человечек, в высоких ичигах и с рыжей, длинным
клином, бородой, похожий на гнома, каких рисуют в детских сказках, — позорно промахнув
все палки. Над ним смеялись. Человечек конфузливо улыбался, но так, что все видели, что
ему нисколько не конфузно, а тоже очень весело.
— Вот он, Левинсон-то, — сказал Пика.
— Где?
— Да вон — рыжий... — Бросив недоумевающего Мечика, Пика с неожиданной,