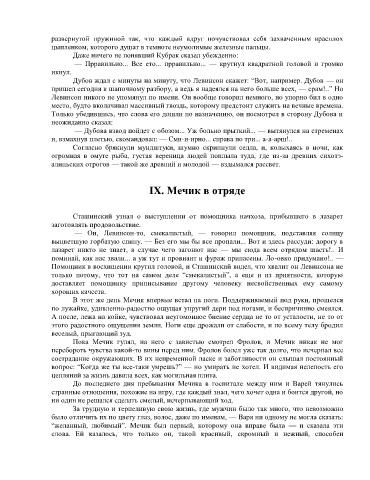Page 33 - Разгром
P. 33
развернутой пружиной так, что каждый вдруг почувствовал себя захваченным врасплох
цыпленком, которого душат в темноте неумолимые железные пальцы.
Даже ничего не понявший Кубрак сказал убежденно:
— Прравильно... Все ето... прравильно... — крутнул квадратной головой и громко
икнул.
Дубов ждал с минуты на минуту, что Левинсон скажет: “Вот, например. Дубов — он
пришел сегодня к шапочному разбору, а ведь я надеялся на него больше всех, — срам!..” Но
Левинсон никого не упомянул по имени. Он вообще говорил немного, но упорно бил в одно
место, будто вколачивал массивный гвоздь, которому предстоит служить на вечные времена.
Только убедившись, что слова его дошли по назначению, он посмотрел в сторону Дубова и
неожиданно сказал:
— Дубова взвод пойдет с обозом... Уж больно прыткий... — вытянулся на стременах
и, взмахнув плетью, скомандовал: — Сми-и-ирно... справа по три... а-а-арш!..
Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули седла, и, колыхаясь в ночи, как
огромная в омуте рыба, густая вереница людей поплыла туда, где из-за древних сихотэ-
алиньских отрогов — такой же древний и молодой — вздымался рассвет.
IX. Мечик в отряде
Сташинский узнал о выступлении от помощника начхоза, прибывшего в лазарет
заготовлять продовольствие.
— Он, Левинсон-то, смекалистый, — говорил помощник, подставляя солнцу
выцветшую горбатую спину. — Без его мы бы все пропали... Вот и здесь рассуди: дорогу в
лазарет никто не знает, в случае чего загонют нас — мы сюда всем отрядом шасть!.. И
поминай, как нас звали... а уж тут и провиант и фураж припасены. Ло-овко придумано!.. —
Помощник в восхищении крутил головой, и Сташинский видел, что хвалит он Левинсона не
только потому, что тот на самом деле “смекалистый”, а еще и из приятности, которую
доставляет помощнику приписывание другому человеку несвойственных ему самому
хороших качеств.
В этот же день Мечик впервые встал на ноги. Поддерживаемый под руки, прошелся
по лужайке, удивленно-радостно ощущая упругий дерн под ногами, и беспричинно смеялся.
А после, лежа на койке, чувствовал неугомонное биение сердца не то от усталости, не то от
этого радостного ощущения земли. Ноги еще дрожали от слабости, и по всему телу бродил
веселый, прыгающий зуд.
Пока Мечик гулял, на него с завистью смотрел Фролов, и Мечик никак не мог
перебороть чувства какой-то вины перед ним. Фролов болел уже так долго, что исчерпал все
сострадание окружающих. В их непременной ласке и заботливости он слышал постоянный
вопрос: “Когда же ты все-таки умрешь?” — но умирать не хотел. И видимая нелепость его
цепляний за жизнь давила всех, как могильная плита.
До последнего дня пребывания Мечика в госпитале между ним и Варей тянулись
странные отношения, похожие на игру, где каждый знал, чего хочет одна и боится другой, но
ни один не решался сделать смелый, исчерпывающий ход.
За трудную и терпеливую свою жизнь, где мужчин было так много, что невозможно
было отличить их по цвету глаз, волос, даже по именам, — Варя ни одному не могла сказать:
“желанный, любимый”. Мечик был первый, которому она вправе была — и сказала эти
слова. Ей казалось, что только он, такой красивый, скромный и нежный, способен