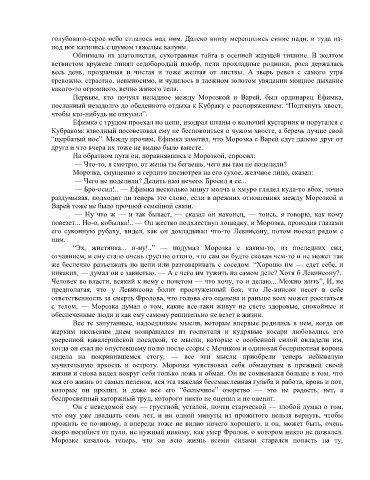Page 51 - Разгром
P. 51
голубовато-серое небо стлалось над ним. Далеко внизу мерещились синие пади, и туда из-
под ног катились с шумом тяжелые валуны.
Обнимала их златолистая, сухотравная тайга в осенней ждущей тишине. В желтом
ветвистом кружеве линял седобородый изюбр, пели прохладные родники, роса держалась
весь день, прозрачная и чистая и тоже желтая от листвы. А зверь ревел с самого утра
тревожно, страстно, невыносимо, и чудилось в таежном золотом увядании мощное дыхание
какого-то огромного, вечно живого тела.
Первым, кто почуял неладное между Морозкой и Варей, был ординарец Ефимка,
посланный незадолго до обеденного отдыха к Кубраку с распоряжением: “Подтянуть хвост,
чтобы кто-нибудь не откусил”.
Ефимка с трудом проехал по цепи, изодрал штаны о колючий кустарник и поругался с
Кубраком: взводный посоветовал ему не беспокоиться о чужом хвосте, а беречь лучше свой
“щербатый нос”. Между прочим, Ефимка заметил, что Морозка с Варей едут далеко друг от
друга и что вчера их тоже не видно было вместе.
На обратном пути он, поравнявшись с Морозкой, спросил:
— Что-то, я смотрю, от жены ты бегаешь, чего вы там не поделили?
Морозка, смущенно и сердито посмотрев на его сухое, желчное лицо, сказал:
— Чего не поделили? Делить нам нечего. Бросил я ее...
— Бро-осил!.. — Ефимка несколько минут молча и хмуро глядел куда-то вбок, точно
раздумывая, подходит ли теперь это слово, если в прежних отношениях между Морозкой и
Варей тоже не было прочной семейной связи.
— Ну что ж — и так бывает, — сказал он наконец, — тоись, я говорю, как кому
повезет... Но-о, кобылка!.. — Он жестко подхлестнул лошадку, и Морозка, проводив глазами
его суконную рубаху, видел, как он докладывал что-то Левинсону, потом поехал рядом с
ним.
“Эх, жистянка... н-ну!..” — подумал Морозка с каким-то, из последних сил,
отчаянием, и ему стало очень грустно оттого, что сам он будто скован чем-то и не может так
же беспечно разъезжать по цепи или разговаривать с соседом. “Хорошо им — едет себе, и
никаких, — думал он с завистью. — А с чего им тужить на самом деле? Хотя б Левинсону?..
Человек во власти, всякий к нему с почетом — что хочу, то и делаю... Можно жить”. И, не
предполагая, что у Левинсона болит простуженный бок, что Ле-винсон несет в себе
ответственность за смерть Фролова, что голова его оценена и раньше всех может расстаться
с телом, — Морозка думал о том, какие все-таки живут на свете здоровые, спокойные и
обеспеченные люди и как ему самому решительно не везет в жизни.
Все те запутанные, надоедливые мысли, которые впервые родились в нем, когда он
жарким июльским днем возвращался из госпиталя и кудрявые косари любовались его
уверенной кавалерийской посадкой, те мысли, которые с особенной силой овладели им,
когда он ехал по опустевшему полю после ссоры с Мечиком и одинокая бесприютная ворона
сидела на покривившемся стогу, — все эти мысли приобрели теперь небывалую
мучительную яркость и остроту. Морозка чувствовал себя обманутым в прежней своей
жизни и снова видел вокруг себя только ложь и обман. Он не сомневался больше в том, что
вся его жизнь от самых пеленок, вся эта тяжелая бессмысленная гульба и работа, кровь и пот,
которые он пролил, и даже все его “беспечное” озорство — это не радость, нет, а
беспросветный каторжный труд, которого никто не оценил и не оценит.
Он с неведомой ему — грустной, усталой, почти старческой — злобой думал о том,
что ему уже двадцать семь лет, и ни одной минуты из прожитого нельзя вернуть, чтобы
прожить ее по-иному, а впереди тоже не видно ничего хорошего, и он, может быть, очень
скоро погибнет от пули, не нужный никому, как умер Фролов, о котором никто не пожалел.
Морозке казалось теперь, что он всю жизнь всеми силами старался попасть на ту,