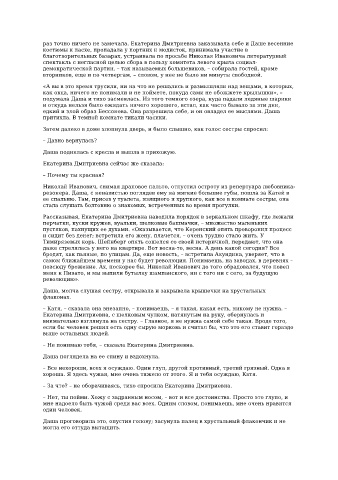Page 24 - Хождение по мукам. Сёстры
P. 24
раз точно ничего не замечала. Екатерина Дмитриевна заказывала себе и Даше весенние
костюмы к пасхе, пропадала у портних и модисток, принимала участие в
благотворительных базарах, устраивала по просьбе Николая Ивановича литературный
спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левого крыла социал-
демократической партии, – так называемых большевиков, – собирала гостей, кроме
вторников, еще и по четвергам, – словом, у нее не было ни минуты свободной.
«А вы в это время трусили, ни на что не решались и размышляли над вещами, в которых,
как овца, ничего не понимали и не поймете, покуда сами не обожжете крылышки», –
подумала Даша и тихо засмеялась. Из того темного озера, куда падали ледяные шарики
и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал, как часто бывало за эти дни,
едкий и злой образ Бессонова. Она разрешила себе, и он овладел ее мыслями. Даша
притихла. В темной комнате тикали часики.
Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил:
– Давно вернулась?
Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую.
Екатерина Дмитриевна сейчас же сказала:
– Почему ты красная?
Николай Иванович, снимая драповое пальто, отпустил остроту из репертуара любовника-
резонера. Даша, с ненавистью поглядев ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в
ее спальню. Там, присев у туалета, изящного и хрупкого, как все в комнате сестры, она
стала слушать болтовню о знакомых, встреченных во время прогулки.
Рассказывая, Екатерина Дмитриевна наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали
перчатки, куски кружев, вуальки, шелковые башмачки, – множество маленьких
пустяков, пахнущих ее духами. «Оказывается, что Керенский опять проворонил процесс
и сидит без денег; встретила его жену, плачется, – очень трудно стало жить. У
Тимирязевых корь. Шейнберг опять сошелся со своей истеричкой, передают, что она
даже стрелялась у него на квартире. Вот весна-то, весна. А день какой сегодня? Все
бродят, как пьяные, по улицам. Да, еще новость, – встретила Акундина, уверяет, что в
самом ближайшем времени у нас будет революция. Понимаешь, на заводах, в деревнях –
повсюду брожение. Ах, поскорее бы. Николай Иванович до того обрадовался, что повел
меня к Пивато, и мы выпили бутылку шампанского, ни с того ни с сего, за будущую
революцию».
Даша, молча слушая сестру, открывала и закрывала крышечки на хрустальных
флаконах.
– Катя, – сказала она внезапно, – понимаешь, – я такая, какая есть, никому не нужна. –
Екатерина Дмитриевна, с шелковым чулком, натянутым на руку, обернулась и
внимательно взглянула на сестру. – Главное, я не нужна самой себе такая. Вроде того,
если бы человек решил есть одну сырую морковь и считал бы, что это его ставит гораздо
выше остальных людей.
– Не понимаю тебя, – сказала Екатерина Дмитриевна.
Даша поглядела на ее спину и вздохнула.
– Все нехороши, всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я
хороша. Я здесь чужая, мне очень тяжело от этого. Я и тебя осуждаю, Катя.
– За что? – не оборачиваясь, тихо спросила Екатерина Дмитриевна.
– Нет, ты пойми. Хожу с задранным носом, – вот и все достоинства. Просто это глупо, и
мне надоело быть чужой среди вас всех. Одним словом, понимаешь, мне очень нравится
один человек.
Даша проговорила это, опустив голову; засунула палец в хрустальный флакончик и не
могла его оттуда вытащить.