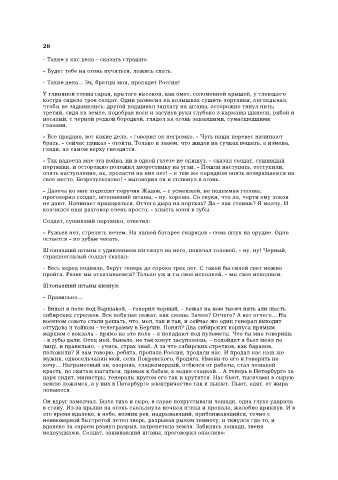Page 97 - Хождение по мукам. Сёстры
P. 97
20
– Такие у нас дела – сказать страшно.
– Будет тебе на огонь пучиться, ложись спать.
– Такие дела… Эх, братцы мои, пропадет Россия!
У глиняной стены сарая, крытого высокой, как омет, соломенной крышей, у тлеющего
костра сидело трое солдат. Один развесил на колышках сушить портянки, поглядывал,
чтобы не задымились; другой подшивал заплату на штаны, осторожно тянул нить;
третий, сидя на земле, подобрав ноги и засунув руки глубоко в карманы шинели, рябой и
носатый, с черной редкой бородкой, глядел на огонь запавшими, сумасшедшими
глазами.
– Все продано, вот какие дела, – говорил он негромко. – Чуть наши перевес начинают
брать, – сейчас приказ – отойти. Только и знаем, что жидов на сучках вешать, а измена,
гляди, на самом верху гнездится.
– Так надоела мне эта война, ни в одной газете не опишут, – сказал солдат, сушивший
портянки, и осторожно положил хворостинку на угли. – Пошли наступать, отступили,
опять наступление, ах, пропасти на них нет! – и тем же порядком опять возвращаемся на
свое место. Безрезультатно! – выговорил он и сплюнул в огонь.
– Давеча ко мне подходит поручик Жадов, – с усмешкой, не поднимая головы,
проговорил солдат, штопавший штаны, – ну, хорошо. Со скуки, что ли, черти ему покоя
не дают. Начинает придираться. Отчего дыра на портках? Да – как стоишь? Я молчу. И
кончился наш разговор очень просто, – хлысть меня в зубы.
Солдат, сушивший портянки, ответил:
– Ружьев нет, стрелять нечем. На нашей батарее снарядов – семь штук на орудие. Одно
остается – по зубам чесать.
Штопавший штаны с удивлением взглянул на него, покачал головой, – ну, ну! Черный,
страшноглазый солдат сказал:
– Весь народ подняли, берут теперь до сорока трех лет. С такой бы силой свет можно
пройти. Разве мы отказываемся? Только уж и ты свое исполняй, – мы свое исполним.
Штопавший штаны кивнул:
– Правильно…
– Видел я поле под Варшавой, – говорил черный, – лежат на нем тысяч пять али шесть
сибирских стрелков. Все побитые лежат, как снопы. Зачем? Отчего? А вот отчего… На
военном совете стали решать, что, мол, так и так, и сейчас же один генерал выходит
оттудова и тайком – телеграмму в Берлин. Понял? Два сибирских корпуса прямым
маршем с вокзала – прямо на это поле – и попадают под пулеметы. Что ты мне говоришь
– в зубы дали. Отец мой, бывало, не так хомут засупонишь, – подойдет и бьет меня по
лицу, и правильно, – учись, страх знай. А за что сибирских стрелков, как баранов,
положили? Я вам говорю, ребята, пропала Россия, продали нас. И продал нас наш же
мужик, односельчанин мой, села Покровского, бродяга. Имени-то его и говорить не
хочу… Неграмотный он, озорник, сладкомордый, отбился от работы, стал лошадей
красть, по скитам шататься, привык к бабам, к водке сладкой… А теперь в Петербурге за
царя сидит, министры, генералы кругом его так и крутятся. Нас бьют, тысячами в сырую
землю ложимся, а у них в Петербурге электричество так и пышет. Пьют, едят, от жира
лопаются.
Он вдруг замолчал. Было тихо и сыро, в сарае похрустывали лошади, одна глухо ударила
в стену. Из-за крыши на огонь скользнула ночная птица и пропала, жалобно крикнув. И в
это время вдалеке, в небе, возник рев, надрывающий, приближающийся, точно с
неимоверной быстротой летел зверь, разрывая рылом темноту, и ткнулся где-то, и
вдалеке за сараем рванул разрыв, затрепетала земля. Забились лошади, звеня
недоуздками. Солдат, зашивавший штаны, проговорил опасливо: