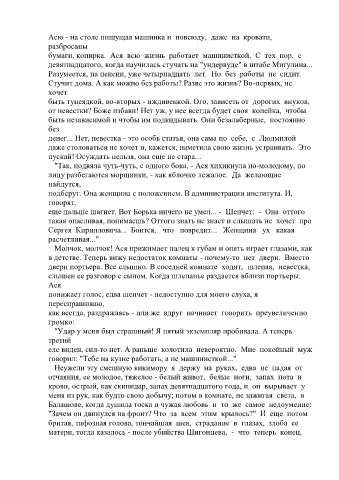Page 178 - Старик
P. 178
Асю - на столе пишущая машинка и повсюду, даже на кровати,
разбросаны
бумаги, копирка. Ася всю жизнь работает машинисткой. С тех пор, с
девятнадцатого, когда научилась стучать на "ундервуде" в штабе Мигулина...
Разумеется, на пенсии, уже четырнадцать лет. Но без работы не сидит.
Стучит дома. А как можно без работы? Разве это жизнь? Во-первых, не
хочет
быть тунеядкой, во-вторых - иждивенкой. Ого, зависеть от дорогих внуков,
от невестки? Боже избави! Нет уж, у нее всегда будет своя копейка, чтобы
быть независимой и чтобы им подкидывать. Они безалаберные, постоянно
без
денег... Нет, невестка - это особь статья, она сама по себе, с Людмилой
даже столоваться не хочет и, кажется, наметила свою жизнь устраивать. Это
пускай! Осуждать нельзя, она еще не стара...
"Так, подвяла чуть-чуть, с одного бока, - Ася хихикнула по-молодому, по
лицу разбегаются морщинки, - как яблочко лежалое. Да желающие
найдутся,
подберут. Она женщина с положением. В администрации института. И,
говорят,
еще дальше шагнет. Вот Борька ничего не умел... - Шепчет: - Она оттого
такая опасливая, понимаешь? Оттого знать не знает и слышать не хочет про
Сергея Кирилловича... Боится, что повредит... Женщина ух какая
расчетливая..."
Молчок, молчок! Ася прижимает палец к губам и опять играет глазами, как
в детстве. Теперь вижу недостаток комнаты - почему-то нет двери. Вместо
двери портьера. Все слышно. В соседней комнате ходит, шлепая, невестка,
слышен ее разговор с сыном. Когда шлепанье раздается вблизи портьеры.
Ася
понижает голос, едва шепчет - недоступно для моего слуха, я
переспрашиваю,
как всегда, раздражаясь - или же вдруг начинает говорить преувеличенно
громко:
"Удар у меня был страшный! Я пятый экземпляр пробивала. А теперь
третий
еле виден, сил-то нет. А раньше колотила невероятно. Мне покойный муж
говорил: "Тебе на кузне работать, а не машинисткой..."
Неужели эту смешную кикимору я держу на руках, едва не падая от
отчаяния, ее молодое, тяжелое - белый живот, белые ноги, запах пота и
крови, острый, как скипидар, запах девятнадцатого года, и он вырывает у
меня из рук, как будто свою добычу; потом в комнате, не зажигая света, в
Балашове, когда душила тоска и чужая любовь и то же самое недоумение:
"Зачем он двинулся на фронт? Что за всем этим крылось?" И еще потом
бритая, тифозная голова, тончайшая шея, страдание в глазах, злоба ее
матери, тогда казалось - после убийства Шигонцева, - что теперь конец,