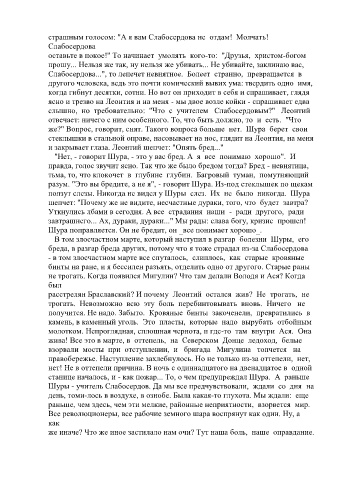Page 63 - Старик
P. 63
страшным голосом: "А я вам Слабосердова не отдам! Молчать!
Слабосердова
оставьте в покое!" То начинает умолять кого-то: "Друзья, христом-богом
прошу... Нельзя же так, ну нельзя же убивать... Не убивайте, заклинаю вас,
Слабосердова...", то лепечет невнятное. Болеет странно, превращается в
другого человека, ведь это почти комический вывих ума: твердить одно имя,
когда гибнут десятки, сотни. Но вот он приходит в себя и спрашивает, глядя
ясно и трезво на Леонтия и на меня - мы двое возле койки - спрашивает едва
слышно, но требовательно: "Что с учителем Слабосердовым?" Леонтий
отвечает: ничего с ним особенного. То, что быть должно, то и есть. "Что
же?" Вопрос, говорит, снят. Такого вопроса больше нет. Шура берет свои
стеклышки в стальной оправе, насовывает на нос, глядит на Леонтия, на меня
и закрывает глаза. Леонтий шепчет: "Опять бред..."
"Нет, - говорит Шура, - это у вас бред. А я все понимаю хорошо". И
правда, голос звучит ясно. Так что же было бредом тогда? Бред - невнятица,
тьма, то, что клокочет в глубине глубин. Багровый туман, помутняющий
разум. "Это вы бредите, а не я", - говорит Шура. Из-под стеклышек по щекам
ползут слезы. Никогда не видел у Шуры слез. Их не было никогда. Шура
шепчет: "Почему же не видите, несчастные дураки, того, что будет завтра?
Уткнулись лбами в сегодня. А все страдания наши - ради другого, ради
завтрашнего... Ах, дураки, дураки..." Мы рады: слава богу, кризис прошел!
Шура поправляется. Он не бредит, он _все понимает хорошо_.
В том злосчастном марте, который наступил в разгар болезни Шуры, его
бреда, в разгар бреда других, потому что я тоже страдал из-за Слабосердова
- в том злосчастном марте все спуталось, слиплось, как старые кровяные
бинты на ране, и я бессилен разъять, отделить одно от другого. Старые раны
не трогать. Когда появился Мигулин? Что там делали Володя и Ася? Когда
был
расстрелян Браславский? И почему Леонтий остался жив? Не трогать, не
трогать. Невозможно всю эту боль перебинтовывать вновь. Ничего не
получится. Не надо. Забыто. Кровяные бинты закоченели, превратились в
камень, в каменный уголь. Это пласты, которые надо вырубать отбойным
молотком. Непроглядная, сплошная чернота, и где-то там внутри Ася. Она
жива! Все это в марте, в оттепель, на Северском Донце ледоход, белые
взорвали мосты при отступлении, и бригада Мигулина топчется на
правобережье. Наступление захлебнулось. Но не только из-за оттепели, нет,
нет! Не в оттепели причина. В ночь с одиннадцатого на двенадцатое в одной
станице началось, и - как пожар... То, о чем предупреждал Шура. А раньше
Шуры - учитель Слабосердов. Да мы все предчувствовали, ждали со дня на
день, томи-лось в воздухе, в ознобе. Была какая-то глухота. Мы ждали: еще
раньше, чем здесь, чем эти мелкие, районные неприятности, взорвется мир.
Все революционеры, все рабочие земного шара воспрянут как один. Ну, а
как
же иначе? Что же иное застилало нам очи? Тут наша боль, наше оправдание.