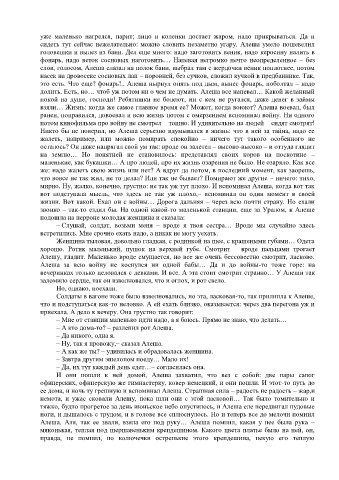Page 156 - Рассказы
P. 156
уже маленько нагрелся, парит; лицо и коленки достает жаром, надо прикрываться. Да и
сидеть тут сейчас нежелательно: можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил
головешки и вылез из бани. Дел еще много: надо заготовить веник, надо керосину налить в
фонарь, надо веток сосновых наготовить… Напевая негромко нечто неопределенное – без
слов, голосом, Алеша слазал на полок бани, выбрал там с жердочки веник поплотнее, потом
насек на дровосеке сосновых лап – поровней, без сучков, сложил кучкой в предбаннике. Так,
это есть. Что еще? фонарь!.. Алеша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал – надо
долить. Есть, но… чтоб уж потом ни о чем не думать. Алеша все напевал… Какой желанный
покой на душе, господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, даже денег в займы
взяли… Жизнь: когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеша воевал, был
ранен, поправился, довоевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного
потом кинофильма про войну не смотрел – тошно. И удивительно на людей – сидят смотрят!
Никто бы не поверил, но Алеша серьезно вдумывался в жизнь: что в ней за тайна, надо ее
жалеть, например, или можно помирать спокойно – ничего тут такого особенного не
осталось? Он даже напрягал свой ум так: вроде он залетел – высоко-высоко – и оттуда глядит
на землю… Но понятней не становилось: представлял своих коров на поскотине –
маленькие, как букашки… А про людей, про их жизнь озарения не было. Не озаряло. Как все
же: надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг да потом, в последний момент, как заорешь,
что вовсе не так жил, не то делал? Или так не бывает? Помирают же другие – ничего: тихо,
мирно. Ну, жалко, конечно, грустно: не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так
вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо,– вспоминал он один момент в своей
жизни. Вот какой. Ехал он с войны… Дорога дальняя – через всю почти страну. Но ехали
звонко – так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, еще за Уралом, к Алеше
подошла на перроне молодая женщина и сказала:
– Слушай, солдат, возьми меня – вроде я твоя сестра… Вроде мы случайно здесь
встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать.
Женщина тыловая, довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашеными губами… Одета
хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит – вроде пальцами трогает
Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково.
Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы… Да и до войны-то тоже горе: на
вечеринках только целовался с девками. И все. А эта стоит смотрит странно… У Алеши так
заломило сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело.
Но, однако, поехали.
Солдаты в вагоне тоже было взволновались, но эта, ласковая-то, так прилипла к Алеше,
что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается: через два перегона уж и
приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит:
– Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь. Прямо не знаю, что делать…
– А кто дома-то? – разлепил рот Алеша.
– Да никого, одна я.
– Ну, так я провожу,– сказал Алеша.
– А как же ты? – удивилась и обрадовалась женщина.
– Завтра другим эшелоном поеду… Мало их!
– Да, их тут каждый день едет…– согласилась она.
И они пошли к ней домой, Алеша захватил, что вез с собой: две пары сапог
офицерских, офицерскую же гимнастерку, ковер немецкий, и они пошли. И этот-то путь до
ее дома, и ночь ту грешную и вспоминал Алеша. Страшная сила – радость не радость – жар,и
немота, и ужас сковали Алешу, пока шли они с этой ласковой… Так было томительно и
тяжко, будто прогретое за день июньское небо опустилось, и Алеша еле передвигал пудовые
ноги, и дышалось с трудом, и в голове все сплюснулось. Но и теперь все до мелочи помнил
Алеша. Аля, так ее звали, взяла его под руку… Алеша помнил, какая у нее была рука –
мяконькая, теплая под шершавеньким крепдешином. Какого цвета платье было на ней, он,
правда, не помнил, но колючечки остренькие этого крепдешина, некую его теплую