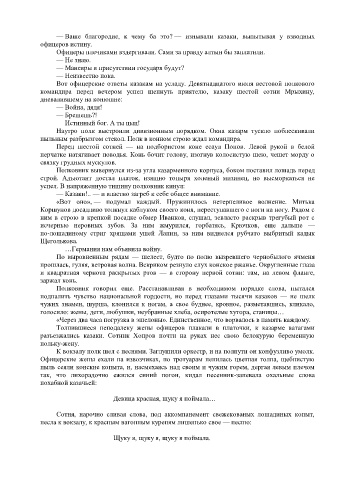Page 151 - Тихий Дон
P. 151
— Ваше благородие, к чему ба это? — изнывали казаки, выпытывая у взводных
офицеров истину.
Офицеры плечиками вздергивали. Сами за правду алтын бы заплатили.
— Не знаю.
— Маневры в присутствии государя будут?
— Неизвестно пока.
Вот офицерские ответы казакам на усладу. Девятнадцатого июля вестовой полкового
командира перед вечером успел шепнуть приятелю, казаку шестой сотни Мрыхину,
дневалившему на конюшне:
— Война, дядя!
— Брешешь?!
— Истинный бог. А ты цыц!
Наутро полк выстроили дивизионным порядком. Окна казарм тускло поблескивали
пыльным разбрызгом стекол. Полк в конном строю ждал командира.
Перед шестой сотней — на подбористом коне есаул Попов. Левой рукой в белой
перчатке натягивает поводья. Конь бочит голову, изогнув колосистую шею, чешет морду о
связку грудных мускулов.
Полковник вывернулся из-за угла казарменного корпуса, боком поставил лошадь перед
строй. Адъютант достал платок, изящно топыря холеный мизинец, но высморкаться не
успел. В напряженную тишину полковник кинул:
— Казаки!.. — и властно загреб к себе общее внимание.
«Вот оно», — подумал каждый. Пружинилось нетерпеливое волнение. Митька
Коршунов досадливо толкнул каблуком своего коня, переступавшего с ноги на ногу. Рядом с
ним в строю в крепкой посадке обмер Иванков, слушал, зевласто раскрыв трегубый рот с
исчернью неровных зубов. За ним жмурился, горбатясь, Крючков, еще дальше —
по-лошадиному стриг хрящами ушей Лапин, за ним виднелся рубчато выбритый кадык
Щеголькова.
— …Германия нам объявила войну.
По выровненным рядам — шелест, будто по полю вызревшего чернобылого ячменя
прошлась, гуляя, ветровая волна. Вскриком резнуло слух конское ржанье. Округленные глаза
и квадратная чернота раскрытых ртов — в сторону первой сотни: там, на левом фланге,
заржал конь.
Полковник говорил еще. Расстанавливая в необходимом порядке слова, пытался
подпалить чувство национальной гордости, но перед глазами тысячи казаков — не шелк
чужих знамен, шурша, клонился к ногам, а свое буднее, кровное, разметавшись, кликало,
голосило: жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые хутора, станицы…
«Через два часа погрузка в эшелоны». Единственное, что ворвалось в память каждому.
Толпившиеся неподалеку жены офицеров плакали в платочки, к казарме ватагами
разъезжались казаки. Сотник Хопров почти на руках нес свою белокурую беременную
польку-жену.
К вокзалу полк шел с песнями. Заглушили оркестр, и на полпути он конфузливо умолк.
Офицерские жены ехали на извозчиках, по тротуарам пенилась цветная толпа, щебнистую
пыль сеяли конские копыта, и, насмехаясь над своим и чужим горем, дергая левым плечом
так, что лихорадочно ежился синий погон, кидал песенник-запевала охальные слова
похабной казачьей:
Девица красная, щуку я поймала…
Сотня, нарочно сливая слова, под аккомпанемент свежекованых лошадиных копыт,
несла к вокзалу, к красным вагонным куреням лишенько свое — песню:
Щуку я, щуку я, щуку я поймала.