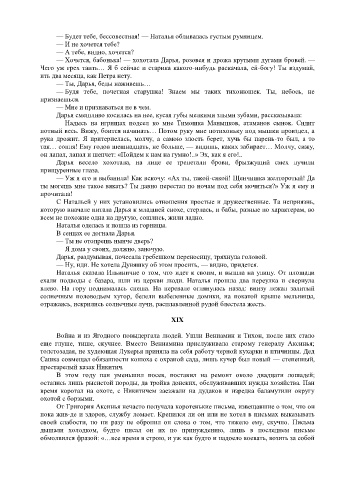Page 191 - Тихий Дон
P. 191
— Будет тебе, бессовестная! — Наталья обливалась густым румянцем.
— И не хочется тебе?
— А тебе, видно, хочется?
— Хочется, бабонька! — хохотала Дарья, розовея и дрожа крутыми дугами бровей. —
Чего уж грех таить… Я б сейчас и старика какого-нибудь раскачала, ей-богу! Ты вздумай,
ить два месяца, как Петра нету.
— Ты, Дарья, беды наживешь…
— Будя тебе, почетная старушка! Знаем мы таких тихонюшек. Ты, небось, не
признаешься.
— Мне и признаваться не в чем.
Дарья смешливо косилась на нее, кусая губы мелкими злыми зубами, рассказывала:
— Надысь на игрищах подсел ко мне Тимошка Маныцков, атаманов сынок. Сидит
потный весь. Вижу, боится начинать… Потом руку мне потихоньку под мышки провздел, а
рука дрожит. Я притерпелась, молчу, а самою злость берет, хучь бы парень-то был, а то
так… сопля! Ему годов шешнадцать, не больше, — видишь, каких забирает… Молчу, сижу,
он лапал, лапал и шепчет: «Пойдем к нам на гумно!..» Эх, как я его!..
Дарья весело хохотала, на лице ее трепетали брови, брызжущий смех лучили
прищуренные глаза.
— Уж я его и выбанила! Как вскочу: «Ах ты, такой-сякой! Щенчишка желторотый! Да
ты могешь мне такое вякать? Ты давно перестал по ночам под себя мочиться?» Уж я ему и
прочитала!
С Натальей у них установились отношения простые и дружественные. Та неприязнь,
которую вначале питала Дарья к младшей снохе, стерлась, и бабы, разные по характерам, во
всем не похожие одна на другую, сошлись, жили ладно.
Наталья оделась и пошла из горницы.
В сенцах ее догнала Дарья.
— Ты не отопрешь нынче дверь?
— Я дома у своих, должно, заночую.
Дарья, раздумывая, почесала гребешком переносицу, тряхнула головой.
— Ну, иди. Не хотела Дуняшку об этом просить, — видно, придется.
Наталья сказала Ильиничне о том, что идет к своим, и вышла на улицу. От площади
ехали подводы с базара, шли из церкви люди. Наталья прошла два переулка и свернула
влево. На гору поднималась спеша. На перевале оглянулась назад: внизу лежал залитый
солнечным половодьем хутор, белели выбеленные домики, на покатой крыше мельницы,
отражаясь, искрились солнечные лучи, расплавленной рудой блестела жесть.
XIX
Война и из Ягодного повыдергала людей. Ушли Вениамин и Тихон, после них стало
еще глуше, тише, скучнее. Вместо Вениамина прислуживала старому генералу Аксинья;
толстозадая, не худеющая Лукерья приняла на себя работу черной кухарки и птичницы. Дед
Сашка совмещал обязанности конюха с охраной сада, лишь кучер был новый — степенный,
престарелый казак Никитич.
В этом году пан уменьшил посев, поставил на ремонт около двадцати лошадей;
остались лишь рысистой породы, да тройка донских, обслуживавших нужды хозяйства. Пан
время коротал на охоте, с Никитичем заезжали на дудаков и изредка баламутили округу
охотой с борзыми.
От Григория Аксинья нечасто получала коротенькие письма, извещавшие о том, что он
пока жив-де и здоров, службу ломает. Крепился ли он или не хотел в письмах выказывать
своей слабости, но ни разу не обронил он слова о том, что тяжело ему, скучно. Письма
дышали холодком, будто писал он их по принуждению, лишь в последнем письме
обмолвился фразой: «…все время в строю, и уж как будто и надоело воевать, возить за собой