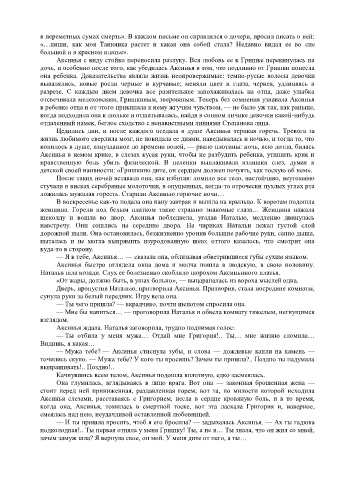Page 192 - Тихий Дон
P. 192
в переметных сумах смерть». В каждом письме он справлялся о дочери, просил писать о ней:
«…пиши, как моя Танюшка растет и какая она собой стала? Недавно видал ее во сне
большой и в красном платье».
Аксинья с виду стойко переносила разлуку. Вся любовь ее к Гришке перекинулась на
дочь, и особенно после того, как убедилась Аксинья в том, что подлинно от Гришки понесла
она ребенка. Доказательства являла жизнь неопровержимые: темно-русые волосы девочки
вывалялись, новые росли черные и курчавые; меняли цвет и глаза, чернея, удлиняясь в
разрезе. С каждым днем девочка все разительнее запохаживалась на отца, даже улыбка
отсвечивала мелеховским, Гришкиным, звероватым. Теперь без сомнения узнавала Аксинья
в ребенке отца и от этого прикипала к нему жгучим чувством, — не было уж так, как раньше,
когда подходила она к люльке и отшатывалась, найдя в сонном личике девочки какой-нибудь
отдаленный намек, беглое сходство с ненавистными линиями Степанова лица.
Цедились дни, и после каждого оседала в душе Аксиньи терпкая горечь. Тревога за
жизнь любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, наведывалась и ночью, и тогда то, что
копилось в душе, взнузданное до времени волей, — рвало плотины: ночь, всю дотла, билась
Аксинья в немом крике, в слезах кусая руки, чтобы не разбудить ребенка, утишить крик и
нравственную боль убить физической. В пеленки выплакивала излишки слез, думая в
детской своей наивности: «Гришкино дите, он сердцем должен почуять, как тоскую об нем».
После таких ночей вставала она, как избитая: ломило все тело, настойчиво, неутомимо
стучали в висках серебряные молоточки, в опущенных, когда-то отрочески пухлых углах рта
ложилась мужалая горесть. Старили Аксинью горючие ночи…
В воскресенье как-то подала она пану завтрак и вышла на крыльцо. К воротам подошла
женщина. Горели под белым платком такие страшно знакомые глаза… Женщина нажала
щеколду и вошла во двор. Аксинья побледнела, угадав Наталью, медленно двинулась
навстречу. Они сошлись на середине двора. На чириках Натальи лежал густой слой
дорожной пыли. Она остановилась, безжизненно уронив большие рабочие руки, сапно дыша,
пыталась и не могла выпрямить изуродованную шею; оттого казалось, что смотрит она
куда-то в сторону.
— Я к тебе, Аксинья… — сказала она, облизывая обветрившиеся губы сухим языком.
Аксинья быстро оглядела окна дома и молча пошла в людскую, в свою половину.
Наталья шла позади. Слух ее болезненно скоблило шорохом Аксиньиного платья.
«От жары, должно быть, в ушах больно», — выцарапалась из вороха мыслей одна.
Дверь, пропустив Наталью, притворила Аксинья. Притворив, стала посредине комнаты,
сунула руки за белый передник. Игру вела она.
— Ты чего пришла? — вкрадчиво, почти шепотом спросила она.
— Мне бы напиться… — проговорила Наталья и обвела комнату тяжелым, негнущимся
взглядом.
Аксинья ждала. Наталья заговорила, трудно поднимая голос:
— Ты отбила у меня мужа… Отдай мне Григория!.. Ты… мне жизню сломила…
Видишь, я какая…
— Мужа тебе? — Аксинья стиснула зубы, и слова — дождевые капли на камень —
точились скупо. — Мужа тебе? У кого ты просишь? Зачем ты пришла?.. Поздно ты надумала
выпрашивать!.. Поздно!..
Качнувшись всем телом, Аксинья подошла вплотную, едко засмеялась.
Она глумилась, вглядываясь в лицо врага. Вот она — законная брошенная жена —
стоит перед ней приниженная, раздавленная горем; вот та, по милости которой исходила
Аксинья слезами, расставаясь с Григорием, несла в сердце кровяную боль, и в то время,
когда она, Аксинья, томилась в смертной тоске, вот эта ласкала Григория и, наверное,
смеялась над нею, неудачливой оставленной любовницей.
— И ты пришла просить, чтоб я его бросила? — задыхалась Аксинья. — Ах ты гадюка
подколодная!.. Ты первая отняла у меня Гришку! Ты, а не я… Ты знала, что он жил со мной,
зачем замуж шла? Я вернула свое, он мой. У меня дите от него, а ты…