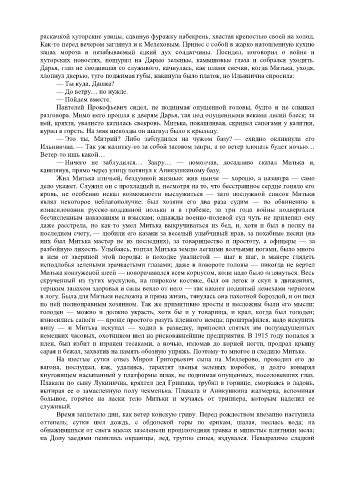Page 247 - Тихий Дон
P. 247
раскачкой хуторские улицы, сдвинув фуражку набекрень, хвастая крепостью своей на холод.
Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню
запах мороза и незабываемый едкий дух солдатчины. Посидел, поговорил о войне и
хуторских новостях, пощурил на Дарью зеленые, камышовые глаза и собрался уходить.
Дарья, глаз не сводившая со служивого, качнулась, как пламя свечки, когда Митька, уходя,
хлопнул дверью, туго поджимая губы, накинула было платок, но Ильинична спросила:
— Ты куда, Дашка?
— До ветру… по нужде.
— Пойдем вместе.
Пантелей Прокофьевич сидел, не поднимая опущенной головы, будто и не слышал
разговора. Мимо него прошла к дверям Дарья, тая под опущенными веками лисий блеск; за
ней, кряхтя, увалисто катилась свекровь. Митька, покашливая, скрипел сапогами у калитки,
курил в горсть. На звяк щеколды он шагнул было к крыльцу.
— Это ты, Митрий? Либо заблудился на чужом базу? — ехидно окликнула его
Ильинична. — Так уж калитку-то за собой засовом запри, а то ветер хлопать будет ночью…
Ветер-то ишь какой…
— Ничего не заблудился… Запру… — помолчав, досадливо сказал Митька и,
кашлянув, прямо через улицу потянул к Аникушкиному базу.
Жил Митька птичьей, бездумной жизнью: жив нынче — хорошо, а назавтра — само
дело укажет. Служил он с прохладцей и, несмотря на то, что бесстрашное сердце гоняло его
кровь, не особенно искал возможности выслужиться — зато послужной список Митьки
являл некоторое неблагополучие: был хозяин его два раза судим — по обвинению в
изнасиловании русско-подданной польки и в грабеже, за три года войны подвергался
бесчисленным наказаниям и взыскам; однажды военно-полевой суд чуть не прилепил ему
даже расстрела, но как-то умел Митька выкручиваться из бед, и, хотя и был в полку на
последнем счету, — любили его казаки за веселый улыбчивый нрав, за похабные песни (на
них был Митька мастер не из последних), за товарищество и простоту, а офицеры — за
разбойную лихость. Улыбаясь, топтал Митька землю легкими волчьими ногами, было много
в нем от звериной этой породы: в походке увалистой — шаг в шаг, в манере глядеть
исподлобья зелеными зрачкастыми глазами; даже в повороте головы — никогда не вертел
Митька контуженой шеей — поворачивался всем корпусом, коли надо было оглянуться. Весь
скрученный из тугих мускулов, на широком костяке, был он легок и скуп в движениях,
терпким запахом здоровья и силы веяло от него — так пахнет поднятый лемехами чернозем
в логу. Была для Митьки несложна и пряма жизнь, тянулась она пахотной бороздой, и он шел
по ней полноправным хозяином. Так же примитивно просты и несложны были его мысли:
голоден — можно и должно украсть, хотя бы и у товарища, и крал, когда был голоден;
износились сапоги — проще простого разуть пленного немца; проштрафился, надо искупить
вину — и Митька искупал — ходил в разведку, приносил снятых им полузадушенных
немецких часовых, охотником шел на рискованнейшие предприятия. В 1915 году попался в
плен, был избит и изранен тесаками, а ночью, изломав до корней ногти, продрал крышу
сарая и бежал, захватив на память обозную упряжь. Поэтому-то многое и сходило Митьке.
На шестые сутки отвез Мирон Григорьевич сына на Миллерово, проводил его до
вагона, послушал, как, удаляясь, тарахтят звенья зеленых коробок, и долго ковырял
кнутовищем насыпанный у платформы шлак, не поднимая опущенных, посоловевших глаз.
Плакала по сыну Лукинична, кряхтел дед Гришака, трубил в горнице, сморкаясь в ладонь,
вытирая ее о замасленную полу чекменька. Плакала и Аникушкина жалмерка, вспоминая
большое, горячее на ласки тело Митьки и мучаясь от триппера, которым наделил ее
служивый.
Время заплетало дни, как ветер конскую гриву. Перед рождеством внезапно наступила
оттепель; сутки шел дождь, с обдонской горы по ерикам, шалая, неслась вода; на
обнажившихся от снега мысах зазеленели прошлогодняя травка и мшистые плитняки мела;
на Дону заедями пенились окраинцы, лед, трупно синея, вздувался. Невыразимо сладкий