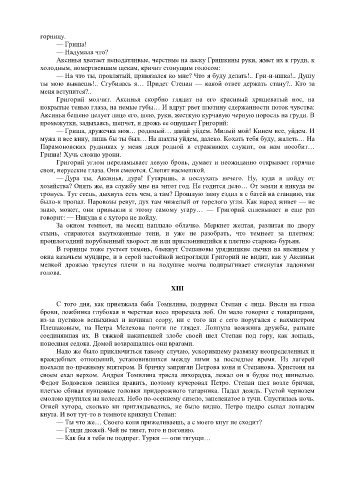Page 30 - Тихий Дон
P. 30
горницу.
— Гриша!
— Надумала что?
Аксинья хватает неподатливые, черствые на ласку Гришкины руки, жмет их к груди, к
холодным, помертвевшим щекам, кричит стонущим голосом:
— На что ты, проклятый, привязался ко мне? Что я буду делать!.. Гри-и-ишка!.. Душу
ты мою вынаешь!.. Сгубилась я… Придет Степан — какой ответ держать стану?.. Кто за
меня вступится?..
Григорий молчит. Аксинья скорбно глядит на его красивый хрящеватый нос, на
покрытые тенью глаза, на немые губы… И вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства:
Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, жесткую курчавую черную поросль на груди. В
промежутки, задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий:
— Гриша, дружечка моя… родимый… давай уйдем. Милый мой! Кинем все, уйдем. И
мужа и все кину, лишь бы ты был… На шахты уйдем, далеко. Кохать тебя буду, жалеть… На
Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит, он нам пособит…
Гриша! Хучь словцо урони.
Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие
свои, нерусские глаза. Они смеются. Слепят насмешкой.
— Дура ты, Аксинья, дура! Гутаришь, а послухать нечего. Ну, куда я пойду от
хозяйства? Опять же, на службу мне на энтот год. Не годится дело… От земли я никуда не
тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем, а там? Прошлую зиму ездил я с батей на станцию, так
было-к пропал. Паровозы ревут, дух там чижелый от горелого угля. Как народ живет — не
знаю, может, они привыкли к этому самому угару… — Григорий сплевывает и еще раз
говорит: — Никуда я с хутора не пойду.
За окном темнеет, на месяц наплыло облачко. Меркнет желтая, разлитая по двору
стынь, стираются выутюженные тени, и уже не разобрать, что темнеет за плетнем:
прошлогодний порубленный хворост ли или прислонившийся к плетню старюка-бурьян.
В горнице тоже густеет темень, блекнут Степановы урядницкие лычки на висящем у
окна казачьем мундире, и в серой застойной непрогляди Григорий не видит, как у Аксиньи
мелкой дрожью трясутся плечи и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями
голова.
XIII
С того дня, как приезжала баба Томилина, подурнел Степан с лица. Висли на глаза
брови, ложбинка глубокая и черствая косо прорезала лоб. Он мало говорил с товарищами,
из-за пустяков вспыхивал и начинал ссору, ни с того ни с сего поругался с вахмистром
Плешаковым, на Петра Мелехова почти не глядел. Лопнула вожжина дружбы, раньше
соединявшая их. В тяжкой накипевшей злобе своей шел Степан под гору, как лошадь,
понесшая седока. Домой возвращались они врагами.
Надо же было приключиться такому случаю, ускорившему развязку неопределенных и
враждебных отношений, установившихся между ними за последнее время. Из лагерей
поехали по-прежнему впятером. В бричку запрягли Петрова коня и Степанова. Христоня на
своем ехал верхом. Андрея Томилина трясла лихорадка, лежал он в будке под шинелью.
Федот Бодовсков ленился править, поэтому кучеровал Петро. Степан шел возле брички,
плетью сбивая пунцовые головки придорожного татарника. Падал дождь. Густой чернозем
смолою крутился на колесах. Небо по-осеннему сизело, запеленатое в тучи. Спустилась ночь.
Огней хутора, сколько ни приглядывались, не было видно. Петро щедро сыпал лошадям
кнута. И вот тут-то в темноте крикнул Степан:
— Ты что же… Своего коня прижеливаешь, а с моего кнут не сходит?
— Гляди дюжей. Чей не тянет, того и погоняю.
— Как бы я тебя не подпрег. Турки — они тягущи…