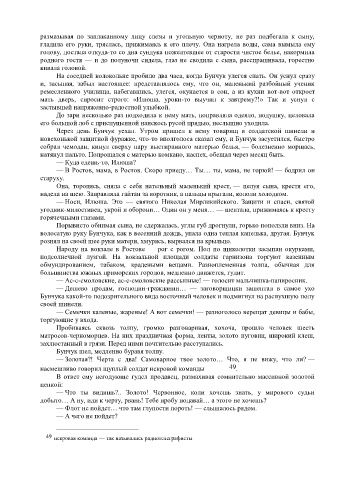Page 318 - Тихий Дон
P. 318
размазывая по заплаканному лицу слезы и угольную черноту, не раз подбегала к сыну,
гладила его руки, тряслась, прижимаясь к его плечу. Она нагрела воды, сама вымыла ему
голову, достала откуда-то со дна сундука пожелтевшее от старости чистое белье, накормила
родного гостя — и до полуночи сидела, глаз не сводила с сына, расспрашивала, горестно
кивала головой.
На соседней колокольне пробило два часа, когда Бунчук улегся спать. Он уснул сразу
и, засыпая, забыл настоящее: представлялось ему, что он, маленький разбойный ученик
ремесленного училища, набегавшись, улегся, окунается в сон, а из кухни вот-вот откроет
мать дверь, спросит строго: «Илюша, уроки-то выучил к завтрему?!» Так и уснул с
застывшей напряженно-радостной улыбкой.
До зари несколько раз подходила к нему мать, поправляла одеяло, подушку, целовала
его большой лоб с приспущенной наискось русой прядью, неслышно уходила.
Через день Бунчук уехал. Утром пришел к нему товарищ в солдатской шинели и
новехонькой защитной фуражке, что-то вполголоса сказал ему, и Бунчук засуетился, быстро
собрал чемодан, кинул сверху пару выстиранного матерью белья, — болезненно морщась,
натянул пальто. Попрощался с матерью комкано, наспех, обещал через месяц быть.
— Куда едешь-то, Илюша?
— В Ростов, мама, в Ростов. Скоро приеду… Ты… ты, мама, не горюй! — бодрил он
старуху.
Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест, — целуя сына, крестя его,
надела на шею. Заправляла гайтан за воротник, а пальцы прыгали, кололи холодком.
— Носи, Илюша. Это — святого Николая Мирликийского. Защити и спаси, святой
угодник-милостивец, укрой и оборони… Один он у меня… — шептала, прижимаясь к кресту
горячечными глазами.
Порывисто обнимая сына, не сдержалась, углы губ дрогнули, горько поползли вниз. На
волосатую руку Бунчука, как в весенний дождь, упала одна теплая капелька, другая. Бунчук
рознял на своей шее руки матери, хмурясь, вырвался на крыльцо.
Народу на вокзале в Ростове — рог с рогом. Пол по щиколотки засыпан окурками,
подсолнечной лузгой. На вокзальной площади солдаты гарнизона торгуют казенным
обмундированием, табаком, крадеными вещами. Разноплеменная толпа, обычная для
большинства южных приморских городов, медленно движется, гудит.
— Ас-с-смоловские, ас-с-смоловские рассыпные! — голосит мальчишка-папиросник.
— Дешево продам, господин-гражданин… — заговорщицки зашептал в самое ухо
Бунчука какой-то подозрительного вида восточный человек и подмигнул на распухшую полу
своей шинели.
— Семечки каленые, жареные! А вот семечки! — разноголосо верещат девицы и бабы,
торгующие у входа.
Пробиваясь сквозь толпу, громко разговаривая, хохоча, прошло человек шесть
матросов-черноморцев. На них праздничная форма, ленты, золото пуговиц, широкий клеш,
захлюстанный в грязи. Перед ними почтительно расступались.
Бунчук шел, медленно буравя толпу.
— Золотая?! Черта с два! Самоварное твое золото… Что, я не вижу, что ли? —
насмешливо говорил щуплый солдат искровой команды 49 .
В ответ ему негодующе гудел продавец, размахивая сомнительно массивной золотой
цепкой:
— Что ты видишь?.. Золото! Червонное, коли хочешь знать, у мирового судьи
добыто… А ну, иди к черту, рвань! Тебе пробу подавай… а этого не хочешь?
— Флот не пойдет… что там глупости пороть! — слышалось рядом.
— А чего не пойдет?
49 искровая команда — так назывались радиотелеграфисты