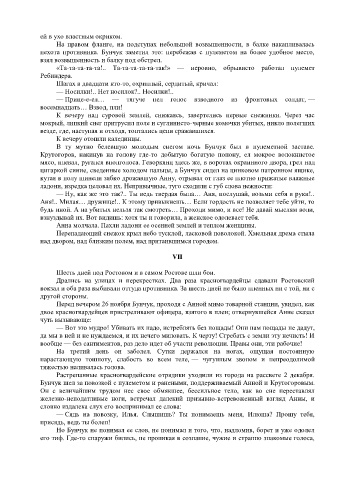Page 326 - Тихий Дон
P. 326
ей в ухо властным окриком.
На правом фланге, на подступах небольшой возвышенности, в балке накапливалась
пехота противника. Бунчук заметил это: перебежав с пулеметом на более удобное место,
взял возвышенность и балку под обстрел.
«Та-та-та-та-та!.. Та-та-та-та-та-так!» — неровно, обрывисто работал пулемет
Ребиндера.
Шагах в двадцати кто-то, охриплый, сердитый, кричал:
— Носилки!.. Нет носилок?.. Носилки!..
— Прице-е-ел… — тягуче пел голос взводного из фронтовых солдат, —
восемнадцать… Взвод, пли!
К вечеру над суровой землей, снижаясь, завертелись первые снежинки. Через час
мокрый, липкий снег притрусил поле и суглинисто-черные комочки убитых, никло полегших
везде, где, наступая и отходя, топтались цепи сражавшихся.
К вечеру отошли калединцы.
В ту мутно белевшую молодым снегом ночь Бунчук был в пулеметной заставе.
Крутогоров, накинув на голову где-то добытую богатую попону, ел мокрое волокнистое
мясо, плевал, ругался вполголоса. Геворкянц здесь же, в воротах окраинного двора, грел над
цигаркой синие, сведенные холодом пальцы, а Бунчук сидел на цинковом патронном ящике,
кутая в полу шинели зябко дрожавшую Анну, отрывал от глаз ее плотно прижатые влажные
ладони, изредка целовал их. Непривычные, туго сходили с губ слова нежности:
— Ну, как же это так?.. Ты ведь твердая была… Аня, послушай, возьми себя в руки!..
Аня!.. Милая… дружище!.. К этому привыкнешь… Если гордость не позволяет тебе уйти, то
будь иной. А на убитых нельзя так смотреть… Проходи мимо, и все! Не давай мыслям воли,
взнуздывай их. Вот видишь: хотя ты и говорила, а женское одолевает тебя.
Анна молчала. Пахли ладони ее осенней землей и теплом женщины.
Перепадающий снежок крыл небо тусклой, ласковой поволокой. Хмельная дрема стыла
над двором, над близким полем, над притаившимся городом.
VII
Шесть дней под Ростовом и в самом Ростове шли бои.
Дрались на улицах и перекрестках. Два раза красногвардейцы сдавали Ростовский
вокзал и оба раза выбивали оттуда противника. За шесть дней не было пленных ни с той, ни с
другой стороны.
Перед вечером 26 ноября Бунчук, проходя с Анной мимо товарной станции, увидел, как
двое красногвардейцев пристреливают офицера, взятого в плен; отвернувшейся Анне сказал
чуть вызывающе:
— Вот это мудро! Убивать их надо, истреблять без пощады! Они нам пощады не дадут,
да мы в ней и не нуждаемся, и их нечего миловать. К черту! Сгребать с земли эту нечисть! И
вообще — без сантиментов, раз дело идет об участи революции. Правы они, эти рабочие!
На третий день он заболел. Сутки держался на ногах, ощущая постоянную
нарастающую тошноту, слабость во всем теле, — чугунным звоном и непреодолимой
тяжестью наливалась голова.
Растрепанные красногвардейские отрядики уходили из города на рассвете 2 декабря.
Бунчук шел за повозкой с пулеметом и ранеными, поддерживаемый Анной и Крутогоровым.
Он с величайшим трудом нес свое обмякшее, бессильное тело, как во сне переставлял
железно-неподатливые ноги, встречал далекий призывно-встревоженный взгляд Анны, и
словно издалека слух его воспринимал ее слова:
— Сядь на повозку, Илья. Слышишь? Ты понимаешь меня, Илюша? Прошу тебя,
присядь, ведь ты болен!
Но Бунчук не понимал ее слов, не понимал и того, что, надломив, борет и уже одолел
его тиф. Где-то снаружи бились, не проникая в сознание, чужие и странно знакомые голоса,